Юсупова стихотворение простите: Простите Юсупов Стихотворение Слушать Онлайн
Премия Вавилона
Журнал «Октябрь», 2017, № 5
Стихи Лиды Юсуповой не отмечены премиями и не так глубоко восприняты критикой, как того заслуживают. Причин у этого несколько. Помимо чисто бытовой, географической (Юсупова живет в Белизе – маленькой карибской стране, не присутствующей ни в сознании большинства русских, в том числе русских литераторов, ни в мировой литературной повестке), дело – главным образом – в специфике самих текстов: новые стихи Люды Юсуповой имеют дело с материями, на которые принято закрывать глаза. Это проблема не стихов, а читательской и культурной конъюнктуры.
Первоочередная тема этих стихов – насилие. Насилие прямое, физическое, страшное, кровавое. В предыдущей книге, «Ритуал С-4», читатели часто имели дело с криминальными сюжетами, подсказанными новостями Белиза, и эти тексты невольно воспринимались как экзотика, может быть, даже романтизированная (так, возможно, воспринимаются истории о войнах мексиканских картелей, да и – уже сейчас – о похождениях российских братков 1990-х; за образами не чуждых робингудства бандитов и кровавыми страстями мы не видим реальных смертей, горя, обезображенных тел). Впрочем, этот «флер» для хоть сколько-то внимательного читателя быстро исчезал: настойчивость Юсуповой – особенно ближе к концу книги – не оставляла шансов за него уцепиться. Новая книга действует еще радикальнее, начиная с самого заглавия и обложки: на ней мы видим гиперреалистическую скульптуру Рона Мьюека, изображающую мертвого обнаженного мужчину, труп во всей его неприглядности и человечности, и отсылающую, разумеется, к «Мертвому Христу» Гольбейна. Об этой скульптуре, запечатлевшей тело отца скульптора, – первое стихотворение книги, утверждающее личностное, прилежащее-к-телу, отношение Юсуповой к темам смерти, родства и насилия; фактография о работе Мьюека перемежается с воспоминаниями о собственном отце и об отце белизского героя, в которого Юсупова, как ей свойственно, перевоплощается. Гиперреализм не означает материализма: «нет никакой разницы папа / между твоим живым и мертвым телом / когда ты проходишь мимо меня / твои прозрачные голубые глаза / смотрят в прошлое / на многих меня», – говорится в другом стихотворении.
Впрочем, этот «флер» для хоть сколько-то внимательного читателя быстро исчезал: настойчивость Юсуповой – особенно ближе к концу книги – не оставляла шансов за него уцепиться. Новая книга действует еще радикальнее, начиная с самого заглавия и обложки: на ней мы видим гиперреалистическую скульптуру Рона Мьюека, изображающую мертвого обнаженного мужчину, труп во всей его неприглядности и человечности, и отсылающую, разумеется, к «Мертвому Христу» Гольбейна. Об этой скульптуре, запечатлевшей тело отца скульптора, – первое стихотворение книги, утверждающее личностное, прилежащее-к-телу, отношение Юсуповой к темам смерти, родства и насилия; фактография о работе Мьюека перемежается с воспоминаниями о собственном отце и об отце белизского героя, в которого Юсупова, как ей свойственно, перевоплощается. Гиперреализм не означает материализма: «нет никакой разницы папа / между твоим живым и мертвым телом / когда ты проходишь мимо меня / твои прозрачные голубые глаза / смотрят в прошлое / на многих меня», – говорится в другом стихотворении. Гиперреализм – вообще хорошая позиция соотнесения для стихов Юсуповой. «Я не делал фигур в человеческий рост, потому что это никогда не казалось мне интересным. Мы видим людей натуральной величины каждый день», – говорил Мьюек; люди у Юсуповой также то приближены, то отдалены, и насилие оказывается винтом оптического прибора. Я не уверен, что она хочет добиться этого эффекта. Даже когда насилие проговариваешь, оно держит тебя в заложниках.
Гиперреализм – вообще хорошая позиция соотнесения для стихов Юсуповой. «Я не делал фигур в человеческий рост, потому что это никогда не казалось мне интересным. Мы видим людей натуральной величины каждый день», – говорил Мьюек; люди у Юсуповой также то приближены, то отдалены, и насилие оказывается винтом оптического прибора. Я не уверен, что она хочет добиться этого эффекта. Даже когда насилие проговариваешь, оно держит тебя в заложниках.
Центральный массив текстов этого сборника – цикл «Приговоры», построенный на основе реальных судебных документов. Это приговоры российских судов – в основном по делам об убийствах и телесных повреждениях. Контекстуализованные как поэзия, эти приговоры высвечивают безумную и бесчеловечную логику насилия, действующую даже там, где оно якобы должно аннигилироваться справедливым возмездием. Мне уже приходилось коротко писать о том, что Юсупова в этом цикле наследует Чарльзу Резникоффу, автору поэмы «Холокост», недавно вышедшей у нас в переводе Андрея Сен-Сенькова. Резникофф говорит об аде Холокоста, без каких-либо эмоций копируя из судебных протоколов описания действий нацистских преступников; Юсупова напоминает о том, что ад не закончился, фашизм не закончился. Цикл предварен посвящением жертве гомофобного убийства Виталию Игоревичу Мингазову:
Резникофф говорит об аде Холокоста, без каких-либо эмоций копируя из судебных протоколов описания действий нацистских преступников; Юсупова напоминает о том, что ад не закончился, фашизм не закончился. Цикл предварен посвящением жертве гомофобного убийства Виталию Игоревичу Мингазову:
Дорогой Виталий Игоревич, простите меня, что я пишу о Вас, называю Ваше имя, рассказываю о Вас. Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас ничего не знала. <…> Я не понимаю, за что можно было вас ненавидеть. Я не понимаю саму возможность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Игоревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люблю. <…> Я хочу, чтобы мир знал, что Вы жили. Что Вы любили жизнь и имели очень много планов и мечтали о счастье, Вы были красивым, у Вас была королевская осанка, Ваше лицо было открытым, у Вас был светлый взгляд и добрая, детская улыбка. <…> Потому что, если люди думают о Вас, переживают за Вас, любят Вас, помнят Вас, Вы не один там, в лесу, когда убийца Вас убивает – когда Вы для него только гей, один из тех, кого он ненавидит и хочет убивать. Поэтому я называю Ваше имя сейчас. Я хочу, чтобы о Вас знали, чтобы о Вас помнили – всегда, чтобы Вы не были один – там и тогда, – мы с Вами, Вы не один, дорогой Виталий Игоревич.
Поэтому я называю Ваше имя сейчас. Я хочу, чтобы о Вас знали, чтобы о Вас помнили – всегда, чтобы Вы не были один – там и тогда, – мы с Вами, Вы не один, дорогой Виталий Игоревич.
Здесь полезно вспомнить, что, когда говорят о контрастах, о перпендикулярах, необязательно имеется в виду двухмерная проекция. К проникновенному тону этого обращения в трехмерном цикле Юсуповой есть два перпендикуляра: собственно кровь и мясо травмы, ужас убиваемого человека – во-первых; повторно унижающие, расчеловечивающие канцелярские фразы – во-вторых. Называемые по имени судьи, обвинители, подсудимые действуют в логике этих пронзающих перпендикуляров. Один из текстов называется «взял деревянную палку и с силой засунул ей эту палку во влагалище»: описание насильственного действия комбинируется с судебным определением, согласно которому «влагалище не является жизненно важным органом». Финал текста – своего рода крошево из фраз протокола, заставляющее нас повторно, много раз прочитать о содеянном убийцей.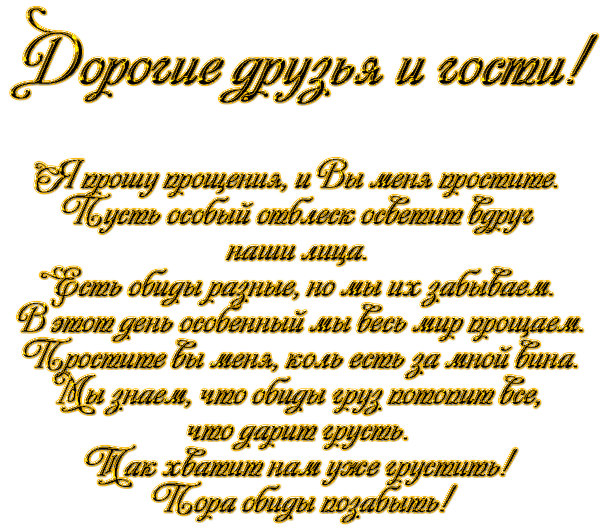 Дублируемое каждый раз на отдельной странице словосочетание «смерть потерпевшей» – одновременно и «макание головой» в эту смерть, и демонстрация того, что ее описание является совершенно идиотским. Более того, как известно, многократно повторенная фраза в сознании человека обессмысливается – и Лида Юсупова без иллюзий показывает бессилие слов перед лицом прямой физической жестокости. Точно так же, описывая произошедшее с ней насилие, Юсупова прибегает к беспомощным повторам:
Дублируемое каждый раз на отдельной странице словосочетание «смерть потерпевшей» – одновременно и «макание головой» в эту смерть, и демонстрация того, что ее описание является совершенно идиотским. Более того, как известно, многократно повторенная фраза в сознании человека обессмысливается – и Лида Юсупова без иллюзий показывает бессилие слов перед лицом прямой физической жестокости. Точно так же, описывая произошедшее с ней насилие, Юсупова прибегает к беспомощным повторам:
и когда он вернулся он молча лёг на меня и у нас был секс я не
сопротивлялась я только сказала это неправильно я повторяла
это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно
это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно
это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно
это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно
это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно
это неправильно
Единственным «позитивным выводом» будет здесь разве только то, что из пепла этого бессилия возрождается факт говорения. Обращение Юсуповой к Виталию Игоревичу Мингазову написано после чтения судебного протокола – и, значит, это оно противопоставлено ему, перпендикулярно ему.
Обращение Юсуповой к Виталию Игоревичу Мингазову написано после чтения судебного протокола – и, значит, это оно противопоставлено ему, перпендикулярно ему.
В Dead Dad есть и другие интонации: например, в тексте «Люцифер-5» Юсупова дает волю саркастической фантазии, и вот с аморфной бессмыслицей (которая внеположна сконструированной победоносной реальности) сталкивается некто Мединский – он сидит в машине, упавшей на дно водоема. Скрупулезные описания в этом стихотворении на первый взгляд напоминают сериальные тексты Дмитрия Данилова или Валерия Нугатова – с той разницей, что часто недооцениваемый прием дает совсем иные эмоциональные результаты и сарказм в какой-то момент замещается ужасом. Поэзия Юсуповой – это экстремальная эмпатия.
Премия Вавилона
1. Стыд, миф и меланхолия
Искренность и документальность для Лиды Юсуповой — неотъемлемые составляющие письма́, она не раз подчёркивала, что её персонажи существуют или существовали, а их истории взяты из архивов, рассказаны ими лично или засвидетельствованы самой Лидой.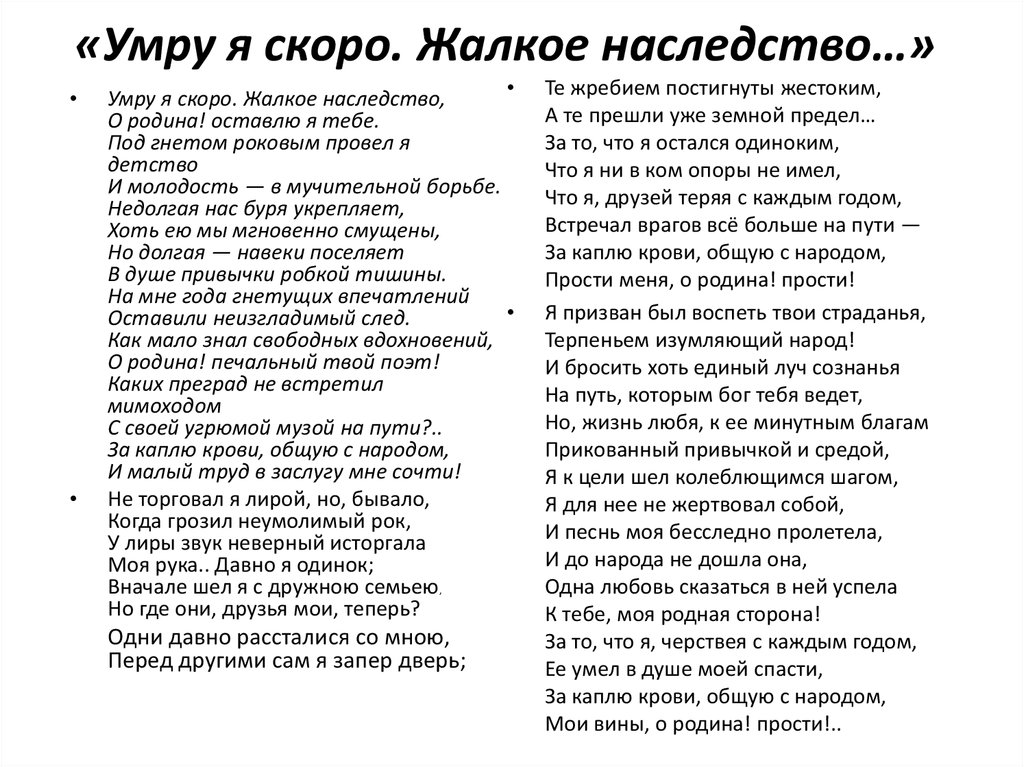 Мне кажется, что стыд, в том виде, в котором мы сталкиваемся с ним в ткани текста, уже переработанный тем или иным образом, всегда преследует (сопровождает или обуславливает) подобные стратегии письма. Когда я, пишущая или пишущий, испытываю стыд (как субъект речи или вкладывая стыд в героя), этот стыд отражается на письме и проникает в адресацию, становясь её частью и структурируя её, — в этом смысле не важно, предстаёт ли подобный акт в качестве преднамеренного. Важен статус, который приобретает стыд в качестве движущей силы текста и индикатора смысла. Стыд, возникающий в тексте потому, что текст, в котором описаны реальные люди, проживает всегда существовавшие, но никогда не вписывавшиеся в нормальное течение жизни чувства и поступки этих людей, культурно-языковые ситуации, позволяющие породить нечто «неправильное», и вообще потому, что в тексте в принципе что-то не клеится, — текст испытывает стыд, который (в отличие от повседневного или же «клинического») не может стать инструментом забывания, вытеснения, сокрытия, сглаживания, борьбы, но способен только обнажаться перед глазами читателя.
Мне кажется, что стыд, в том виде, в котором мы сталкиваемся с ним в ткани текста, уже переработанный тем или иным образом, всегда преследует (сопровождает или обуславливает) подобные стратегии письма. Когда я, пишущая или пишущий, испытываю стыд (как субъект речи или вкладывая стыд в героя), этот стыд отражается на письме и проникает в адресацию, становясь её частью и структурируя её, — в этом смысле не важно, предстаёт ли подобный акт в качестве преднамеренного. Важен статус, который приобретает стыд в качестве движущей силы текста и индикатора смысла. Стыд, возникающий в тексте потому, что текст, в котором описаны реальные люди, проживает всегда существовавшие, но никогда не вписывавшиеся в нормальное течение жизни чувства и поступки этих людей, культурно-языковые ситуации, позволяющие породить нечто «неправильное», и вообще потому, что в тексте в принципе что-то не клеится, — текст испытывает стыд, который (в отличие от повседневного или же «клинического») не может стать инструментом забывания, вытеснения, сокрытия, сглаживания, борьбы, но способен только обнажаться перед глазами читателя. Эта категория стыда, кажется, универсальна, но у Лиды Юсуповой и субъект речи встаёт на позицию обнажения, не стыдливого обнажения, а в каком-то смысле на позицию самого стыда. Кирилл Кобрин заметил, что Л.Ю. нашла «почти невозможный для русской поэзии пункт наблюдения и описания» (коротко говоря, одновременно «внутри» и «вовне»), и с моей точки зрения в этом пункте заложена возможность почувствовать мучительный стыд за происходящее, будучи в определённом смысле несоотнесённым с ним и оторванным от него. В цикле «Приговоры» стыд, принадлежащий какому-либо голосу, появляется только там, где даёт о себе знать некто вроде автора, стремящийся рассказать о преступлении, — и это мучительный стыд, который испытывает единственно некто, не имеющий никакого отношения к сюжету, то есть к самому преступлению. Очень хорошо это видно в авторском предисловии к стихотворению об убийстве на почве гомосексуальности:
Эта категория стыда, кажется, универсальна, но у Лиды Юсуповой и субъект речи встаёт на позицию обнажения, не стыдливого обнажения, а в каком-то смысле на позицию самого стыда. Кирилл Кобрин заметил, что Л.Ю. нашла «почти невозможный для русской поэзии пункт наблюдения и описания» (коротко говоря, одновременно «внутри» и «вовне»), и с моей точки зрения в этом пункте заложена возможность почувствовать мучительный стыд за происходящее, будучи в определённом смысле несоотнесённым с ним и оторванным от него. В цикле «Приговоры» стыд, принадлежащий какому-либо голосу, появляется только там, где даёт о себе знать некто вроде автора, стремящийся рассказать о преступлении, — и это мучительный стыд, который испытывает единственно некто, не имеющий никакого отношения к сюжету, то есть к самому преступлению. Очень хорошо это видно в авторском предисловии к стихотворению об убийстве на почве гомосексуальности:
«Дорогой Виталий Игоревич, простите меня, что я пишу о Вас, называю Ваше имя, рассказываю о Вас. Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас ничего не знала. Я не писала бы сейчас ваше имя. Я не понимаю, за что можно было Вас ненавидеть. Я не понимаю саму возможность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Игоревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люблю. Я уже много раз писала Вам и всегда слова получались не такими, я всегда знала, что это — не те слова, которые вы услышите».
Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас ничего не знала. Я не писала бы сейчас ваше имя. Я не понимаю, за что можно было Вас ненавидеть. Я не понимаю саму возможность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Игоревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люблю. Я уже много раз писала Вам и всегда слова получались не такими, я всегда знала, что это — не те слова, которые вы услышите».
Сострадание субъекта речи — к кому-то, кто перестал быть посторонним потому, что умер «не своей смертью». Нельзя сказать, что этому человеку не было места в жестоком мире: у него было своё место в мире, в котором должен был родиться и умереть такой человек, как он.
<…>УСТАНОВИЛ:
Около 10 часов 29.07.2011 года Грицынин С.А.,
имея преступный умысел, направленный
на убийство лица мужского пола, имеющего
нетрадиционную сексуальную ориентацию
<…>
где, получив доступ к сети интернет
<.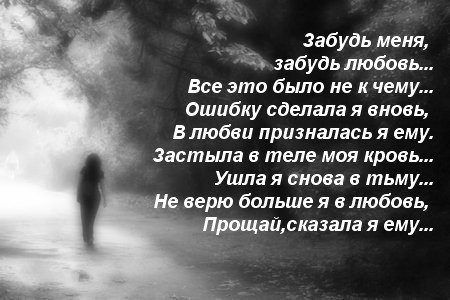 ..>
..>
познакомился на сайте с
М.В.И.
<…> убедившись, в том, что М.В.И.
является лицом
нетрадиционной сексуальной ориентации
У стыда, рассеянного в тексте Лиды Юсуповой, есть важная особенность: он оторван от почвы вины в том смысле, что в нём нет места обвинению, и насилие существует скорее как организм, среда обитания которого — мир людей, чем в насильнике как отдельном человеке, взрастившем в себе «насилие» (что отсылает нас к фильмам Линча). Похоже, что кому-то мучительно стыдно за мир сам по себе, за мир как территорию. Подобное уже отмечали читатели текстов Лиды Юсуповой, например, Галина Рымбу («Воздух», 2014, № 4) и Денис Ларионов («Спасение единиц»). Оба они говорили об этой особенности в контексте мифологической логики, которая возникает благодаря тому, что в текстах, описывающих череду ужасных событий, в ходе которых, например, один человек погиб от рук другого, будто нет понятия о чьей-либо личной ответственности за происходящее. Поэтому поэтическая речь сближает преступника и жертву (Г.Р.), и, как в мифе, «трагизм персональной судьбы вырабатывается движением роковой механики мира» (Д.Л.).
Поэтому поэтическая речь сближает преступника и жертву (Г.Р.), и, как в мифе, «трагизм персональной судьбы вырабатывается движением роковой механики мира» (Д.Л.).
никто знает почему это случилось
может быть собаки были голодными и запах крови
а может быть запах крови привлёк злых духов и вселившись в собак они
прости друг твоя жена умерла
В этой как будто мифологической логике важно то, что наряду с личной ответственностью отходит на второй план, в сущности — отсутствует причина происходящего, поэтому в роли движущей силы выступает случайность (как будто все оказываются радикально «не в то время и не в том месте», настолько радикально, что это даже кажется волей рока). Вообще «фактообразующая», структурирующая сюжет роль случайности — это характерная особенность барочной литературы, вытекающая из характерной для барочного мировоззрения идеи о том, что миром правит, собственно, случайность. В этом состоит существенное отличие «мифологизма» художественной реальности текстов Л.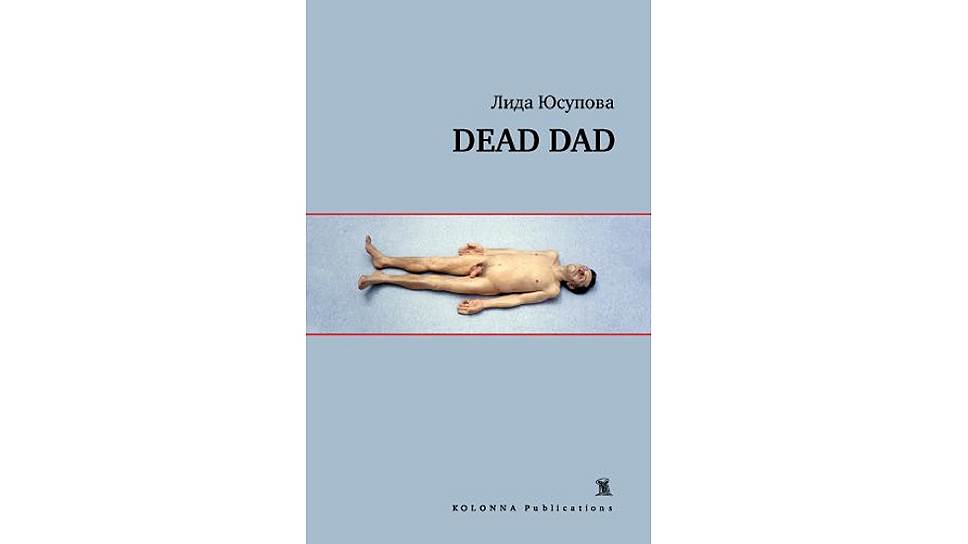 Ю. от мифологической реальности, скажем, «Эдипа в Колоне». «Трагизм персональной судьбы» действительно «вырабатывается движением роковой механики мира», но «роковой» в смысле, который оказывается почти противоположным смыслу слова «рок» в контексте античной мифологии, потому что случайность означает принципиальную необусловленность, отсутствие не только воли Богов и нитей судьбы, неподвластных герою античного мифа и имеющих роковую власть над ним, но и отсутствие такой «главной причины», которая могла бы с грехом пополам взять на себя роль чего-то возвышающегося над набором событий, складывающихся в обычное течение человеческой жизни. С одной стороны, всё идёт так, будто существует некий сценарий:
Ю. от мифологической реальности, скажем, «Эдипа в Колоне». «Трагизм персональной судьбы» действительно «вырабатывается движением роковой механики мира», но «роковой» в смысле, который оказывается почти противоположным смыслу слова «рок» в контексте античной мифологии, потому что случайность означает принципиальную необусловленность, отсутствие не только воли Богов и нитей судьбы, неподвластных герою античного мифа и имеющих роковую власть над ним, но и отсутствие такой «главной причины», которая могла бы с грехом пополам взять на себя роль чего-то возвышающегося над набором событий, складывающихся в обычное течение человеческой жизни. С одной стороны, всё идёт так, будто существует некий сценарий:
Моника Джек ездила в город за подарками
Моника Джек везёт подарки
всё очень хорошо
и появляется убийца
Это действительно похоже на очень общее изложение сюжета сценария какого-нибудь детектива, и в такие моменты (ужасающая краткость + реальные имена) обнаруживается общее со стихотворениями из цикла «Приговоры», которые говорят на языке власти.
убийца хватает Монику Джек
она кричит
но хорошее
травки птички стрекозы облака солнце
не спасает её
С другой стороны, исход настолько очевиден, что сценарий не нужен, будто одних только «ролей» (костюмов для этих ролей?) достаточно. Когда в стихотворении появляются слова «появляется убийца», исход очевиден уже потому, что если кому-то дано имя «убийца», значит, он кого-то убил (= убьёт несколько строчек спустя).
Создаётся впечатление, что во всех этих текстах, описывающих несвоевременные смерти, реальность насилия держится только на ролях, которые надо сыграть («насильник», «жертва», самоубийца», «счастливая мать пожарного», слушающая по телевизору историю про «чью-то сгоревшую мать», но слышащая только своего сына), и есть налаженный механизм, придающий каждому человеку форму определённого типа (а какого — это уж смотря на какой из лент человек окажется). И если бы кто-нибудь захотел остановить этот механизм (вырубить двигатель, например), то обнаружил бы противоречие, не найдя никакого двигателя:
колесо велосипеда на котором приехал Санчес
брошенного посреди дороги закрутилось само
Однако в этой реальности находится место неопровержимой вере в судьбу:
почему она? плачет Рита Джо
а ей отвечают: судьба
и корюшка падает с неба светится разноцветными
огоньками
и Рита Джо говорит: я верю в судьбу мне пять лет папа
плачет дедушка без сознания сестра молчит
бабушка на папу кричит папа берёт меня и мы
уезжаем он отдаёт меня чужим людям
когда я вспоминаю 1937 год, говорит Рита Джо через
много лет, я вижу разноцветные огоньки слова не
образующие связного текста поступки не поддаю-
щиеся пониманию
и в них я ищу любовь
для возвращения смысла
Или жертва вдруг обретает подчёркнуто жертвенную речь, выражая самоотверженную готовность страдать за другого и быть его жертвой:
Во мне столько любви, что я ничего не боюсь, я так
набожен, что я сейчас говорю:
друг Фуэнтес, ты убивал меня дважды, но я выжил,
<. ..>
..>
И вот, я пострадал за твои страданья, никто не видит
это во мне, но мною спасутся
А в другом тексте убийца вдруг оказывается «на одной волне» с той жертвой, в измерении всепроникающего страдания:
глаза у Санчеса стали огромными и в них было столько
отчаяния что казалось он не вынесет этого великого
страдания которое внезапно заполнило всё его
существо
Как будто вину и ответственность вытесняют страдание и сострадание. Или это вина и ответственность (о которых говорит закон, отталкиваясь от которых, где-то до сих пор практикуют смертную казнь) не вытесняют страдания и позволяют состраданию состояться чистым и искренним? Важно, что сострадание здесь должно именно состояться заново, потому что речь всегда идёт о событиях прошлого. Вадим Калинин отмечает кажущуюся осмысленность и вписанность этого «сострадания прошлому» в контекст культуры («Объяснение в любви», «Воздух», 2014, № 4). Действительно, события, которые оживлены в текстах Юсуповой, могли считаться уже отрефлексированными, но эти тексты обнажают недостаточность, скованность культурной рефлексии, и отказ мыслить в оптике вины и ответственности оказывается средством её (ритуального) очищения и высвобождения. Такое сострадание прошлому, на мой взгляд, перекликается с описанным у Вальтера Беньямина чувством прошлого, которым должен быть движим исторический материалист, противопоставляющий историцистскому конституированию «вечных образов» прошлого уникальный опыт общения с ним (прошлым). «Именно невозвратимый образ прошлого оказывается под угрозой исчезновения с появлением любой современности, не сумевшей угадать себя подразумеваемой в этом образе» («О понятии истории», Новое литературное обозрение, 2000). И в текстах Юсуповой проделана эта работа, образ прошлого оживает и возвращается в настоящее письма.
Вадим Калинин отмечает кажущуюся осмысленность и вписанность этого «сострадания прошлому» в контекст культуры («Объяснение в любви», «Воздух», 2014, № 4). Действительно, события, которые оживлены в текстах Юсуповой, могли считаться уже отрефлексированными, но эти тексты обнажают недостаточность, скованность культурной рефлексии, и отказ мыслить в оптике вины и ответственности оказывается средством её (ритуального) очищения и высвобождения. Такое сострадание прошлому, на мой взгляд, перекликается с описанным у Вальтера Беньямина чувством прошлого, которым должен быть движим исторический материалист, противопоставляющий историцистскому конституированию «вечных образов» прошлого уникальный опыт общения с ним (прошлым). «Именно невозвратимый образ прошлого оказывается под угрозой исчезновения с появлением любой современности, не сумевшей угадать себя подразумеваемой в этом образе» («О понятии истории», Новое литературное обозрение, 2000). И в текстах Юсуповой проделана эта работа, образ прошлого оживает и возвращается в настоящее письма. (В стихотворении «камнеломки ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪ» тело, умерщвлённое в прошлом, получает своё продолжение в пространстве настоящего.)
(В стихотворении «камнеломки ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪ» тело, умерщвлённое в прошлом, получает своё продолжение в пространстве настоящего.)
Возможность такого уникального опыта общения с прошлым у Беньямина обусловлена меланхолией (которая противопоставлена «депрессивной»). Вообще, кажется, меланхолия не может обойти этот мир потому, что в нём постоянно что-то оказывается утраченным и буквально кто-то оказывается утрачен. Хотя следует сразу сделать оговорку: во многих текстах чувствуется особого рода меланхолия, но, если говорить о меланхолии в связи с всепоглощающим, «обезвоживающим» и повергающим в бездействие чувством утраты (или о меланхолии в клиническом смысле), то ей подвержен не тот, кто посылает читателю потоки слов, описывая мир из своего особенного наблюдательного пункта. Чтобы описать утрату с позиции субъекта речи, на мой взгляд, лучше всего подходят стихотворение о Чижике («Ритуал С-4») и цикл «Приговоры». Если «сложить» два стихотворения, то получится субъект, равно и безгранично сострадающий близкому человеку (за смерть которого чувствует вину, потому что не смог её предотвратить) и совершенно незнакомому. Скорбь о смерти незнакомого человека, даже если рассказчик с нормальной общечеловеческой точки зрения не имеет причин себя винить, наполняет эти тексты особым чувством вины. Юсупова говорит (в интервью Линор Горалик): «Всё же я думаю, что главная моя тема — спасение/неспасение. Я могла бы спасти Диму Чижикова. Если бы я поняла, как пытаюсь понять в стихах, его — в жизни, — услышала бы его голоса…». И к концу стихотворения у Неё получается заговорить на Его языке и на своём одновременно, от одного лица, но как бы сразу от двух:
Скорбь о смерти незнакомого человека, даже если рассказчик с нормальной общечеловеческой точки зрения не имеет причин себя винить, наполняет эти тексты особым чувством вины. Юсупова говорит (в интервью Линор Горалик): «Всё же я думаю, что главная моя тема — спасение/неспасение. Я могла бы спасти Диму Чижикова. Если бы я поняла, как пытаюсь понять в стихах, его — в жизни, — услышала бы его голоса…». И к концу стихотворения у Неё получается заговорить на Его языке и на своём одновременно, от одного лица, но как бы сразу от двух:
он не хотел чтобы я знала что он плохой
он не хотел чтобы я знала что все знали что он плохой
с самого начала
его мама знала что он плохой как только он родился
поэтому она бросила его в роддоме
и в детском доме все знали что он плохой
поэтому его отправили в школу для зпр
все-все знали а я не знала
и поэтому он мне не сказал и я его не спасла
Но умерший в прошлом находит своё продолжение и отражение в настоящем, в другом теле и чувстве, в чьей-то личной истории:
и когда я смотрела на мужчину сидящего напротив нас
в нью-йоркском метро
и видела его димины глаза и
его димин шрам — изнаночный шов шизофрении
и когда я знала что он слушает свои димины голоса
я знала что кто-то лучше меня спасает его
и поэтому он здесь он живой
В «Приговорах», однако, адресат любовного чувства изначально мёртв, находится за границей субъектности, противопоставлен жизни, к невозможному спасению которой направлена эта любовь.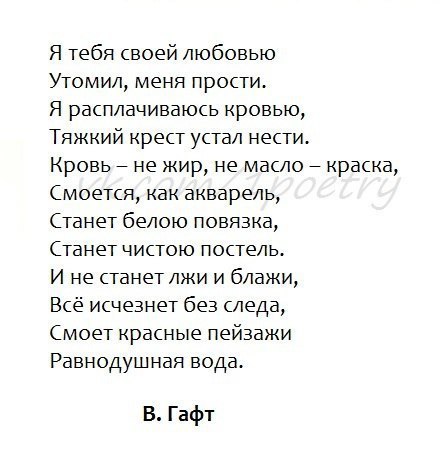 Это такое совсем не наивное и разрушительное в своей наивности движение, химическая реакция соединения в сострадательно-любовной речи субъекта и её «объекта». Точнее, её совсем-не-объекта, потому что в результате такой адресации «жертва» оказывается вне отношений мифологической реальности, в которой она существовала в качестве объекта этой реальности и умерла, став объектом другого (который тоже кажется лишённым воли на конвейере рокового механизма). Все слова этой речи окажутся «не теми словами», потому что адресат их никогда не получит. А вина, которая как бы не может не родиться там, где есть искренняя любовь к тому, кого не можешь (не смог бы) спасти, будто стремится восполнить нехватку вины насильника. И это стремление, конечно, заранее обречено на провал. И тогда, не имея в топологии художественного пространства места для своего источника, как бы лишённый своей субъективной почвы, по тексту рассеивается стыд.
Это такое совсем не наивное и разрушительное в своей наивности движение, химическая реакция соединения в сострадательно-любовной речи субъекта и её «объекта». Точнее, её совсем-не-объекта, потому что в результате такой адресации «жертва» оказывается вне отношений мифологической реальности, в которой она существовала в качестве объекта этой реальности и умерла, став объектом другого (который тоже кажется лишённым воли на конвейере рокового механизма). Все слова этой речи окажутся «не теми словами», потому что адресат их никогда не получит. А вина, которая как бы не может не родиться там, где есть искренняя любовь к тому, кого не можешь (не смог бы) спасти, будто стремится восполнить нехватку вины насильника. И это стремление, конечно, заранее обречено на провал. И тогда, не имея в топологии художественного пространства места для своего источника, как бы лишённый своей субъективной почвы, по тексту рассеивается стыд.
2. Политические тела
Розалина Вернер тоже говорила про Маргариту Агнессу
Клей: она святая
когда она это говорила
эскимосские лайки бежали по её простыням
лайки были продолжением тела Маргариты Агнессы Клей
лайки продолжения тела Маргариты Агнессы Клей
бегут по белому ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ когда констебль С. Г. Клей разрывает
Г. Клей разрывает
девственную плеву Розалины Вернер
Возникает нечто похожее на «paroles» Эжена Грина, особенно в «Живущем мире», где речь преодолевает смерть прекрасного рыцаря и возвращает его в мир. В мире Л.Ю. тело Маргариты Агнессы Клей как бы заново обретает означивание, когда о ней говорят, что «она святая», и лайки, продолжение её тела, бегут по «белым» простыням, когда лишается девственности «белое» тело Розалинды Вернер, произносившей слова «она святая» вместе с констеблем. Смерть девственной плевы на мгновение становится смертью М.А. Клей, будто на мгновение совпадают «смерть», «секс» и «вечная жизнь».
Похоже, что после смерти Маргариты Агнессы Клей начинается переопределение пространства через следы смерти Маргариты Агнессы Клей:
констебль С. Г. Клей смотрит на кровавый мох
констебль С. Г. Клей смотрит на камнеломки
Клей смотрит на камнеломки
вся плоская земля весь мох все камни покрыты
маленькими лиловыми цветами
весь ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ покрыт маленькими лиловыми цветами
маленькие лиловые цветы разламывают ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ
на
камни
мох
ветер
Гудзон
порфирные кольца
небо
тучи
холод
шум волн
тело которое ты чувствуешь здесь всегда тело холоднее камня
констебль С. Г. Клей чувствует приближение тела Маргариты Агнессы Клей
Как будто всё художественное пространство смыкается и размыкается в теле жертвы насилия, совершился запущенный мифологическим механизмом насилия цикл, опорной точкой которого было тело жертвы.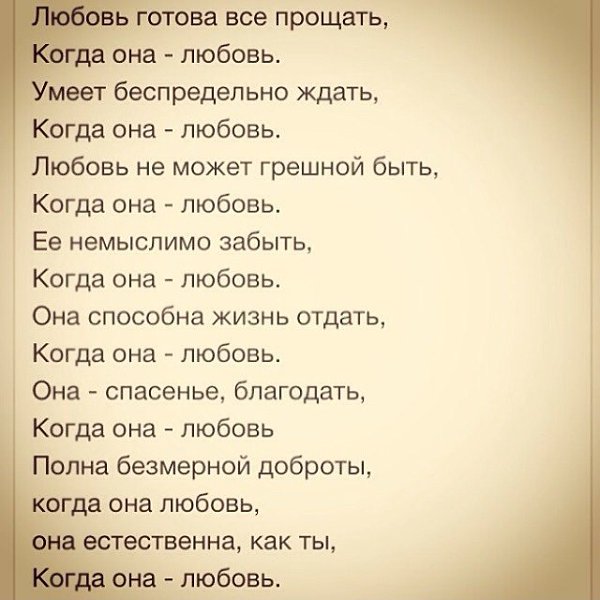 И жертва (последняя часть — это её сон) будто заново обретает своё тело в насилии, а после смерти — обретает мифическое тело «в недостижимости»:
И жертва (последняя часть — это её сон) будто заново обретает своё тело в насилии, а после смерти — обретает мифическое тело «в недостижимости»:
и когда моё имя исчезнет
как зимняя кость
пробегающие лайки будут щекотать мои нервы
позволяя мне почувствовать своё тело
<…>
моя кузина
на брачном ложе
говорит ему обо мне:
святая
напоминая о моём нетленном теле
сданном на хранение
в каменный морозильник
в недостижимости для родных и близких
Линор Горалик спросила Юсупову, как та представляет себе метафорическую схему тела. Юсупова ответила: «Наверное, это было бы бесконечное тело, не женское и не мужское, и одновременно женское и мужское, и всегда детское, и всегда старое».
В своём творчестве Юсупова постоянно касается конфликта между отдельным человеком, пытающимся помыслить своё тело (себя как тело), стремящимся совпасть с собственным телом, и властью, «стремящейся дисциплинировать наши тела» (как выразилась Лора Эссиг в предисловии к книге «У любви четыре руки»). В рамках квир-проблематики, полагает Эссиг, книга Юсуповой и Маргариты Меклиной исследует возможность желания вне дисциплины, сексуальности и гендера.
В рамках квир-проблематики, полагает Эссиг, книга Юсуповой и Маргариты Меклиной исследует возможность желания вне дисциплины, сексуальности и гендера.
Транссексуальные герои рассказов Юсуповой, вслед за «Мадам Эдвардой» Жоржа Батая обнаруживают в себе сексуальное, открывающееся в своей тождественности экзистенциальному (или правильнее сказать, что сексуальное помещено в измерение онтологического?), а место, в глазах общества связанное с «развратом», то есть как будто подразумевающее пустоту и «утрату себя», — бордель, или, если угодно, «кабаре», — на самом деле означает для героя ту точку, в которой только и возможно обрести «нечто в себе», восполнить недостачу, не позволяющую собственному телу существовать. Но у Батая герой пытается обрести это существование через падение в одну пропасть сексуальности вместе с богом, наблюдая божественное наслаждение в проститутке, которая и есть Бог, — у Юсуповой же экзистенция привязана к обыденной реальности, к попыткам «необычных» людей существовать в социуме, не предусматривающем их. Место батаевског божественного у Юсуповой занимает любовь, всегда оказывающаяся «чем-то бо́льшим».
Место батаевског божественного у Юсуповой занимает любовь, всегда оказывающаяся «чем-то бо́льшим».
Всё, к чему я стремилась в моей жизни тогда, — было её тело, ею отрекаемое, но женское, каким бы мужским оно ни было. Её женское тело было центром моей души. Я не могла представить свою жизнь без этого недосягаемого пейзажа — горизонта тела моей любовницы на колышущихся водах матраса, на широкой кровати, в апельсиновом свете настольной лампы. Розалинда, Розалинда, я люблю тебя, всё, что я могла ей говорить.
В этой любовной речи центром души (больше, чем объектом желания, — одна из причин, по которым вспоминается Батай) становится не просто тело другого, но тело, которое одновременно реально и нереально, досягаемо и недосягаемо, тело, которого, требует душа другого, как будто возвращения домой, но тело, которое изначально была дано принципиально другим. Желание влюблённой направлено на желание той, кого она любит, совпасть с собственным телом. И вокруг этого желания совпасть с собственным телом в рассказах Лиды Юсуповой сосредоточена особая квир-эстетика, когда рассказчик или «голос за кадром» наслаждается сексуальной красотой, преодолевшей границу между мужским и женским. И если в рассказе, о котором сейчас шла речь, это красота, стремящаяся от мужественности к женственности, то в «Адонае-Ламанае» перед нами в лице госпожи Браун предстаёт гармония черт, которые в рамках «гетеросексуальной матрицы» несовместимы в одном «я»:
И вокруг этого желания совпасть с собственным телом в рассказах Лиды Юсуповой сосредоточена особая квир-эстетика, когда рассказчик или «голос за кадром» наслаждается сексуальной красотой, преодолевшей границу между мужским и женским. И если в рассказе, о котором сейчас шла речь, это красота, стремящаяся от мужественности к женственности, то в «Адонае-Ламанае» перед нами в лице госпожи Браун предстаёт гармония черт, которые в рамках «гетеросексуальной матрицы» несовместимы в одном «я»:
Но ваши тонкие нежные руки! — воскликнула Адоная-Ламаная. — Как в них могли спрятаться мышцы водителя огромного грузовика!» «Мужское прячется в женском, потом женское прячется в мужском, но у меня ничто не прячется никогда, это, наверное, потому что характер у меня такой, нескрытный, я то такая, то такой, я люблю всю себя показать!
«Великая легенда и вечно сияющая транс-звезда гей-кабаре» описана речью рассказчика, глазами Адонаи-Ламанаи, собственной речью и языком газет (последний, конечно, не скрывает своего скептического удивления, но с лёгкостью становится одним из «пунктов наблюдения» за тем, как красива и жива госпожа Браун:
И появляется «она», бугай с квадратными плечами! Её серебряные волосы подпирают потолок, пышное красное платье заполняет всю сцену, и красный газ рукавов не скрывает внушительных бицепсов, достойных боксёра-тяжеловеса.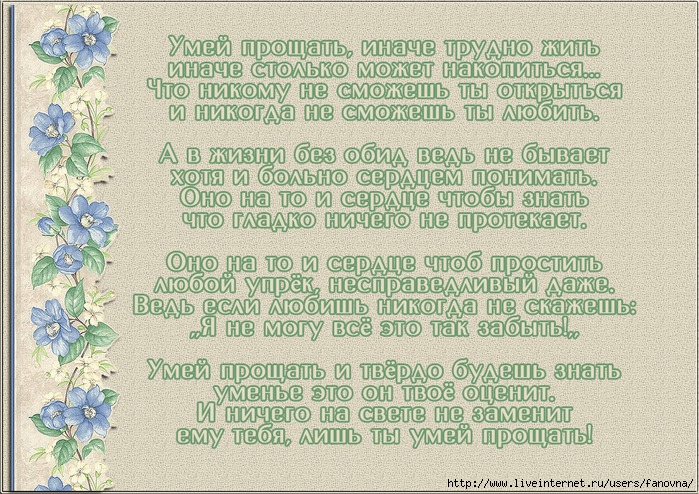
Эта эстетика в рассказах Юсуповой выступает, сообразно действительности, как отверженная, «невидимая», как бы всё время находящаяся под ударом. Что-то всегда желает насильственно придать форму эстетическому наслаждению сексуальностью. И попыткой вырваться (одновременно удавшейся и обречённой на поражение) может стать отказ принимать предложенные формы (включая «Романтические Отношения»), попытка квир-субъекта совпасть с самим собой в любви к другому, стремление к гармонии, сопряжённое с уходом от «идеальных образов». Этот уход может балансировать между бегством в эстетику отвратительного и вторжением новой реальности в прежние границы идеала. Для революционизирования нормы необходимо и то, и другое — показывает Юсупова, например, неожиданным поворотом в финале монолога, разрушающим идеальный образ мёртвого, прекрасного, недостижимого возлюбленного:
На фоне продуктового магазина и агентства по уволакиванию плохо припаркованных машин госпожа Браун исполнила свою самую знаменитую песню о погибшем возлюбленном, который лежит, холодный, на столе морга. Она пела: отпустите его тело, вниз, вниз, вниз, туда, куда все уходят, о, Боже, благослови его, благослови его, но ты не найдёшь другого такого мужчины для меня, такого, как он, нет, никогда, но пусть он уходит, пусть уходит, отпустите его, отпустите, о Боже, благослови его, благослови, пусть он уходит, пусть, я скажу ему «прощай, уходи», так я скажу ему, потому что у него, хуесоса, уже ничто не встаёт на меня!
Она пела: отпустите его тело, вниз, вниз, вниз, туда, куда все уходят, о, Боже, благослови его, благослови его, но ты не найдёшь другого такого мужчины для меня, такого, как он, нет, никогда, но пусть он уходит, пусть уходит, отпустите его, отпустите, о Боже, благослови его, благослови, пусть он уходит, пусть, я скажу ему «прощай, уходи», так я скажу ему, потому что у него, хуесоса, уже ничто не встаёт на меня!
Обещание высокой трагедии обернулось сексуальной неудовлетворённостью, скорбь о мёртвом любимом — это скорбь не о его душе, а о его теле, о сексуальном возбуждении, которое он больше не испытает. Но так и переживается травма, и это не только более искреннее в своём эгоцентризме, но и более продуктивное переживание, чем то «идеальное», к которому готовит нас начало пассажа.
Юсупова показывает и оборотную сторону этой медали: неготовность отстаивать свою сексуальность, желание, умерщвлённое властью (как политической, так и идеальной, дискурсивной). В тексте «и нашу волшебную еблю» (из книги «Dead Dad») самоидентификация с политической властью увязывается с переходом от однополой любви к гетеронормативности:
я думала ты умерла может быть совершила
самоубийство
а ты жива жива и пишешь о хохлах
и грязных мигрантах
и о прекрасном путине и обезьяне обаме
о том что надо бомбить украину и сирию
и о том что только любовь между мужчиной
и женщиной чистая любовь
По логике текста заменой физического самоубийства оказывается самоубийство дискурсивное: героиня из прошлой жизни, которая желала чего-то принципиально иного, умерла. Речь на языке власти — это речь умерщвлённого желания.
Речь на языке власти — это речь умерщвлённого желания.
Это стихотворение Юсуповой, основанное на (предположительно подлинном) посте в Фейсбуке, предвосхищает в определённом отношении документальную поэзию «Приговоров». Документальное письмо Юсуповой выстраивает позицию, напоминающую о «Боли» Маргерит Дюрас: говорящая свидетельствует об ужасных событиях, но «настоящий» свидетель — не она, а тот, кто где-то там, в Освенциме, возможно, уже мёртв. Сердцевиной этого письма является та связь, которая, словами Дюрас, «приковывает нашу жизнь к их телам» (перевод М. Злобиной). О чём-то подобном говорит и Юсупова в своём интервью:
Я полностью подчиняюсь тексту, иногда персонажи, хотя они не персонажи, а реальные люди, которые живы или жили, вселяются в меня, как диббуки, и пишут свои стихи, как это сделал Деннис Керр в «Ритуале С-4» (кстати, C-4 произносится как си-фо), где ему не хватало дыхания на слова, — потому что он мёртв, вернее, у него вообще не было дыхания…
Документ — это возможное место встречи говорящего с мёртвым, встречи, сопряжённой со страстной любовью.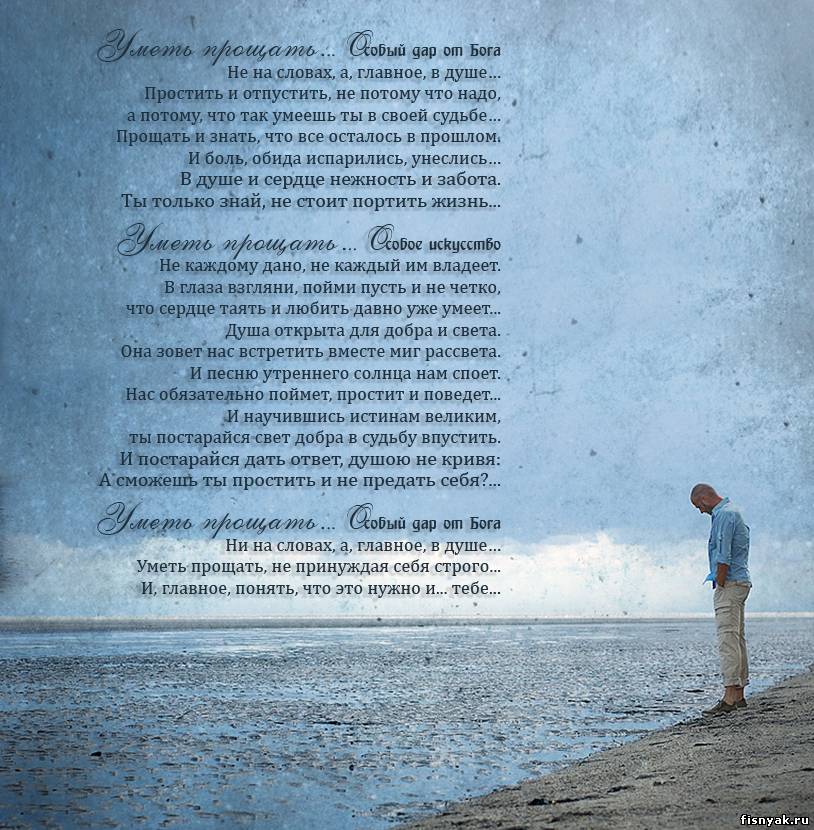 Мёртвый язык документа по контрасту усиливает живой язык любви. В том же смысле, в каком Гийом Аполлинер сказал про первый сюрреалистический балет «Парад», что этот спектакль более правдив, чем сама жизнь, можно сказать, что язык поэзии реальнее языка реальности. Уклоняясь от языка реальности в сторону мёртвых, выморочных языков (прежде всего — языка судебного протокола), Юсупова обеспечивает языку поэзии удвоенное преимущество. Документ обнажает свою абсолютную неспособность быть подлинно документальным, Юсупова показывает его следование за языковыми шаблонами вместо отображения реальности — и в соответствии с этим сама замещает мимесис копипейстом. Пустотность этого художественного метода соответствует опустошённости копируемого языкового материала. Но остраняющий «эффект реальности» возникает за счёт любого сбоя в копировании — за счёт повторов и зависаний, за счёт нарушающей линейную последовательность событий пересборки, — и это очень сильный эффект:
Мёртвый язык документа по контрасту усиливает живой язык любви. В том же смысле, в каком Гийом Аполлинер сказал про первый сюрреалистический балет «Парад», что этот спектакль более правдив, чем сама жизнь, можно сказать, что язык поэзии реальнее языка реальности. Уклоняясь от языка реальности в сторону мёртвых, выморочных языков (прежде всего — языка судебного протокола), Юсупова обеспечивает языку поэзии удвоенное преимущество. Документ обнажает свою абсолютную неспособность быть подлинно документальным, Юсупова показывает его следование за языковыми шаблонами вместо отображения реальности — и в соответствии с этим сама замещает мимесис копипейстом. Пустотность этого художественного метода соответствует опустошённости копируемого языкового материала. Но остраняющий «эффект реальности» возникает за счёт любого сбоя в копировании — за счёт повторов и зависаний, за счёт нарушающей линейную последовательность событий пересборки, — и это очень сильный эффект:
взял деревянную палку и с силой засунул ей
эту палку во влагалище
затем он вытащил данную палку на ней остались кишки Г.
Обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимого, по делу не установлено
влагалище — не является жизненно важным органом
что, безусловно, улучшает положение осуждённого
в качестве смягчающего обстоятельства
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
взял деревянную палку и с силой засунул ей
эту палку во влагалище
затем он вытащил данную палку на ней остались кишки Г.
в качестве смягчающего обстоятельства
влагалище — не является жизненно важным органом
влагалище — не является жизненно важным органом
влагалище — не является жизненно важным органом
смерть потерпевшей наступила лишь спустя 102 дня
Едва ли не каждая деталь уголовного дела может открыться заново в качестве чудовищной подробности, стоит лишь выделить её из потока мёртвой речи. Тем самым обнажается неспособность языка власти говорить о реальности: вынося за скобки отвращение и стыд, используя демонстративно нейтральные юридические конструкции, фактически функционирующие как эвфемизмы, документ выступает как образцовая неподлинная речь, не схватывающая наиболее существенного. Но поэзия собственными средствами возвращает в эту речь вытесненную из документа жизнь.
Тем самым обнажается неспособность языка власти говорить о реальности: вынося за скобки отвращение и стыд, используя демонстративно нейтральные юридические конструкции, фактически функционирующие как эвфемизмы, документ выступает как образцовая неподлинная речь, не схватывающая наиболее существенного. Но поэзия собственными средствами возвращает в эту речь вытесненную из документа жизнь.
Документальные стратегии в феминистской поэзии. Интервью с Еганой Джаббаровой, Марией Малиновской и Лидой Юсуповой
Егана Джаббарова:
Поэтесса, критикиня и филологиня. Окончила филологический факультет Уральского федерального университета, кандидат филологических наук. Преподает русский язык как иностранный. Авторка поэтических книг «Босфор» (2015), «Поза Ромберга» (2017), «Красная кнопка тревоги» (2020). Лауреатка премии «Поэтический дебют» журнала «Новая Юность» (2016). Лонг-лист и шорт-лист премии Аркадия Драгомощенко (2017, 2019). Ее публикации выходили в толстых и сетевых журналах в России и Украине. Участница международных антологий «Под одной обложкой» (Казахстан) и F-Letter (Англия). Стихи переведены на английский, польский и итальянский языки.
Участница международных антологий «Под одной обложкой» (Казахстан) и F-Letter (Англия). Стихи переведены на английский, польский и итальянский языки.
Мария Малиновская:
Белорусская поэтесса и переводчица, пишущая на русском языке. Родилась в 1994 году в Гомеле. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру ИФИ РГГУ. Автор книг «Каймания» (2020) и «Движение скрытых колоний» (2020). Стихи публиковались в журналах [Транслит], «Носорог», «Воздух», TextOnly» и др. и переводились на английский, испанский, итальянский, норвежский, польский и литовский языки. Участница the European Poetry Festival (Европейский поэтический фестиваль) (Лондон 2019, Вильнюс 2019), the Nordic Poetry Festival (Северный поэтический фестиваль) (Норвегия, 2019).
Лида Юсупова:
Авторка пяти поэтических книг «Ирасалимль», «Ритуал C-4», «Dead Dad», «Приговоры», «The Scar We Know» и книги прозы «У любви четыре руки» (совместно с Маргаритой Меклиной). Лауреатка премии «Различие» (2017) и премии Вавилона (2021). Публикации в антологии «F Letter», журналах «Воздух», «Митин журнал», «Русский журнал», «Modern Poetry in Translation», «La Revue de Belles-Lettres», на сайтах Ф-письмо, Грёза, Сноб и других. Стихи переведены на английский, французский, китайский, польский и другие языки. Спектакли по стихам ставились в петербургских Инженерном театре АХЕ и Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. Родилась в 1963 году в Петрозаводске, жила в Петербурге и Иерусалиме, сейчас живет в Торонто (Канада) и на коралловом острове Ambergris Caye (Белиз). Имеет левретку по имени Жужу.
Публикации в антологии «F Letter», журналах «Воздух», «Митин журнал», «Русский журнал», «Modern Poetry in Translation», «La Revue de Belles-Lettres», на сайтах Ф-письмо, Грёза, Сноб и других. Стихи переведены на английский, французский, китайский, польский и другие языки. Спектакли по стихам ставились в петербургских Инженерном театре АХЕ и Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. Родилась в 1963 году в Петрозаводске, жила в Петербурге и Иерусалиме, сейчас живет в Торонто (Канада) и на коралловом острове Ambergris Caye (Белиз). Имеет левретку по имени Жужу.
Н.В.: В какой момент и почему в вашей поэтической практике случился поворот к документу? Каким образом вы определяете документальный характер устного или письменного свидетельства? Как менялась и продолжает меняться ваша поэтическая работа с документальными стратегиями?
Е.Д.: Моя жизнь и тело в какой-то степени подтолкнули меня к документальной поэзии. Это произошло в 2017 году во время работы над циклом «Позы Ромберга». Я поняла, что мне жизненно необходимо зафиксировать слова каждой женщины в той палате, каждого человека в больничном подвале, иначе было невозможно справиться с действительностью. В тот момент работа происходила во многом интуитивно, по наитию и из ощущения важности честного и прозрачного диалога — я согласовала с каждым человеком возможность рождения текста, они и стали первыми читателями и слушателями текста. Также есть опыт написания текстов, обращенных в прошлое, к примеру, цикл SUT, посвященный женщинам, убитым членами семьи (honor killing). Сейчас мне любопытна работа с семейным архивом, с предметностью и телесностью, в том числе с больным телом.
Я поняла, что мне жизненно необходимо зафиксировать слова каждой женщины в той палате, каждого человека в больничном подвале, иначе было невозможно справиться с действительностью. В тот момент работа происходила во многом интуитивно, по наитию и из ощущения важности честного и прозрачного диалога — я согласовала с каждым человеком возможность рождения текста, они и стали первыми читателями и слушателями текста. Также есть опыт написания текстов, обращенных в прошлое, к примеру, цикл SUT, посвященный женщинам, убитым членами семьи (honor killing). Сейчас мне любопытна работа с семейным архивом, с предметностью и телесностью, в том числе с больным телом.
М.М.: Поворот к документу случился неосознанно — когда мне было 19-20 лет. Эту историю неоднократно рассказывала, а также описывала в эссе по материалам доклада на нашей дискуссии о документальном письме и феминизме. Друг с опытом шизофрении поделился со мной личным дневником и попросил написать что-нибудь на его основе. Но, читая дневник, я поняла, что нужно дать прозвучать самой этой речи, не вторгаясь в ее внутреннее устройство и тем более не пересказывая события своими словами. В этой речи было больше образности и эксперимента, чем во многих примерах современной поэзии. Но этой речи нужно было помочь — выбрать наиболее характерные фрагменты и дать им форму. Так родился первый текст моего документального поэтического проекта «Каймания», основанного на высказываниях реальных людей с психическими расстройствами.
В этой речи было больше образности и эксперимента, чем во многих примерах современной поэзии. Но этой речи нужно было помочь — выбрать наиболее характерные фрагменты и дать им форму. Так родился первый текст моего документального поэтического проекта «Каймания», основанного на высказываниях реальных людей с психическими расстройствами.
Мне хотелось бы рассказать еще об одном случае, о котором я вспомнила только недавно. В 17-18 лет я переживала сильнейшее психологическое потрясение после того, как пропал мой близкий человек. Так случилось, что я рассказала эту историю одному театральному режиссеру. Он заинтересовался и попросил меня написать пьесу на основе реальных событий. Я решила попробовать — еще и потому, что в то время просто необходимо было поделиться с кем-то своими переживаниями. Но с самого начала, во-первых, стало невыносимо больно изображать речь пропавшего друга, а во-вторых, захотелось подлинности: взять то, что от него осталось — нашу переписку, — и заставить его самого говорить, таким образом возвращая его в «здесь и сейчас».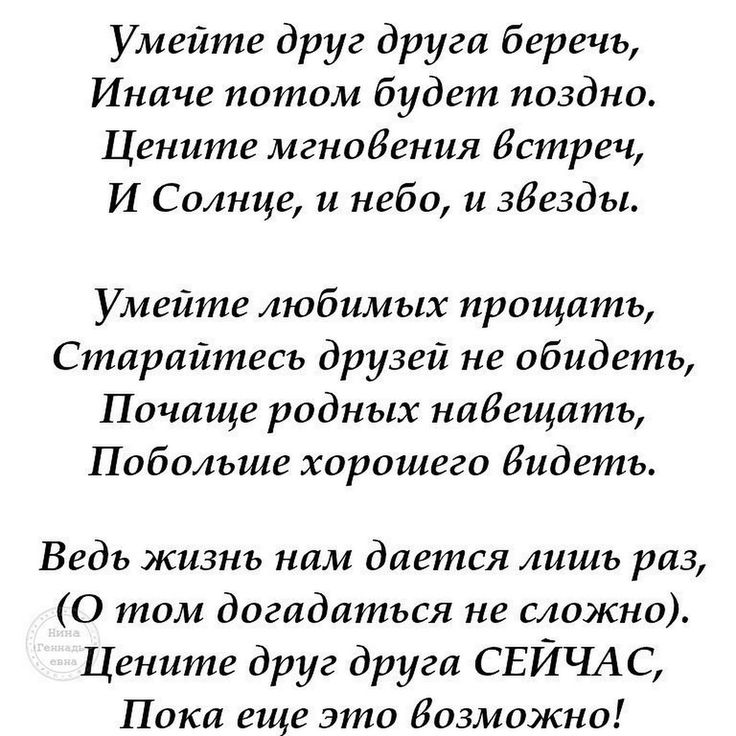 Пьесу режиссер, конечно, отверг и правильно сделал. Я об этом случае забыла. А теперь вспомнила, потому что, возможно, это и был мой первый никому не известный документальный опыт.
Пьесу режиссер, конечно, отверг и правильно сделал. Я об этом случае забыла. А теперь вспомнила, потому что, возможно, это и был мой первый никому не известный документальный опыт.
Если я правильно понимаю второй вопрос — как я решаю, что то или иное свидетельство может стать основой для документального текста? Спонтанно, в живом общении с человеком. Я не придумываю тем для своих документальных проектов и тем более не пишу на горячие темы. Я встречаю людей. Не ищу их, а само собой встречаю по жизни — возможно, потому что люблю новые знакомства, даже потенциально небезопасные, но с яркими личностями, с теми, кто может впустить меня в свой мир. А какой это мир — галлюцинаторный, криминальный, военный, — уже не так важно. Мне должно быть хорошо и интересно с человеком, а ему — со мной. Желание написать что-то возникает (или не возникает) уже в процессе общения.
Как менялась и продолжает меняться моя поэтическая работа с документальными стратегиями — ответ на этот вопрос напрямую связан с ответом на предыдущий. Я попадаю в мир конкретного человека, а это уже не индивидуальный поиск, не индивидуальное переживание счастливых или болезненных моментов, а всегда совместное. Стихи становятся неотрывны от развития отношений. Начинала я с монологической речи своих собеседников в «Каймании» (первая,вторая и третья части, неопубликованное). Уже во время работы над «Кайманией» я ощутила желание выйти за пределы чистого вербатима и зимой 2017–2018 написала поэму «Вы люди. Я — нет», в основу которой были положены личные разговоры с бывшим заключенным, а также фрагменты из криминальной хроники, сообщения с форумов и из закрытых групп, посвященных тюремной жизни, и огромное количество новостных заголовков. За этим последовала поэма «Причальный проезд», отражающая личный опыт переживания ситуации домашнего насилия, там я впервые зафиксировала не только речь собеседника (в данном случае насильника), но и собственную. В поэме также есть фрагменты криминальной хроники, новостные заголовки, высказывания серийных убийц, выживших жертв, родителей обеих сторон (к примеру, отца Джеффри Дамера), экспертов-криминалистов, в том числе и профессора Г.
Я попадаю в мир конкретного человека, а это уже не индивидуальный поиск, не индивидуальное переживание счастливых или болезненных моментов, а всегда совместное. Стихи становятся неотрывны от развития отношений. Начинала я с монологической речи своих собеседников в «Каймании» (первая,вторая и третья части, неопубликованное). Уже во время работы над «Кайманией» я ощутила желание выйти за пределы чистого вербатима и зимой 2017–2018 написала поэму «Вы люди. Я — нет», в основу которой были положены личные разговоры с бывшим заключенным, а также фрагменты из криминальной хроники, сообщения с форумов и из закрытых групп, посвященных тюремной жизни, и огромное количество новостных заголовков. За этим последовала поэма «Причальный проезд», отражающая личный опыт переживания ситуации домашнего насилия, там я впервые зафиксировала не только речь собеседника (в данном случае насильника), но и собственную. В поэме также есть фрагменты криминальной хроники, новостные заголовки, высказывания серийных убийц, выживших жертв, родителей обеих сторон (к примеру, отца Джеффри Дамера), экспертов-криминалистов, в том числе и профессора Г. Д. — моего друга, с которым я обсуждала свою ситуацию.
Д. — моего друга, с которым я обсуждала свою ситуацию.
Следующим радикальным шагом в плане трансформации документального письма стал для меня поэтический цикл «Время собственное», основанный на общении с человеком, пережившим гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре (перваявторая и третья части). На сегодняшний день это, пожалуй, мое наиболее экспериментальное поэтическое произведение, где есть и вербатим, и лирическое высказывание, и стихотворения, соединяющие документальную и недокументальную речь, и живая реакция моего собеседника на нашу совместную работу — метапозиция информанта, которая вывела мое понимание документальной поэзии на новый уровень и поставила передо мной новые задачи.
Время от времени я возвращаюсь и к чистому вербатиму — когда кто-то рассказывает мне историю, к которой не хочется ничего добавлять. Так, например, была написана поэма «На горе Бокор» об этически противоречивом сексуальном самоопределении одного близкого друга, который внезапно захотел поделиться своими переживаниями со мной, или моя самая новая поэма «Серые новости», основанная на рассказах родственника влиятельных египетских политиков, попавшего вместе с семьей в заложники к террористам.
Л.Ю.: Мне всегда нравилась оффбит-документальность — моей любимой книгой в семь лет были мемуары Жукова «Воспоминания и размышления» в бело-красной суперобложке. Я помню, меня положили в больницу по какому-то дурацкому поводу, причем во взрослое отделение, причем в Новый год, и я читала эти мемуары, толстенную книгу (хотя, может быть, сейчас она не покажется мне толстой), и для меня важным было, что это про то, что было, документ, а не детские сказки — я помню ощущение, как будто я вхожу в чужую неосвещенную квартиру, в полумрак, где многое непонятно — как и в том мире, который меня окружал. Мне было очень многое непонятно — мои родители, учителя, одноклассники вели себя нелогично, и моей задачей было наблюдать и пытаться понять — так же и во время чтения мемуаров жука (Жуков представлялся мне большим толстым черным жуком) мне, в целом, было не совсем понятно, что он рассказывает, но по отдельности — слова, фразы — казались очень интересными… Наверное, потому что я знала, что за ними стоит большее: история — история не в смысле history, а в смысле — story. То есть это была врожденная страсть к storytelling.
То есть это была врожденная страсть к storytelling.
Если пропустить всю жизнь между той зимой и зимой, когда я впервые попала в Белиз и включила телевизор — сделать такой длинный стежок, — то можно будет сказать, что белизские новости повернули мою любовь к документу в сторону поэзии. Может быть, потому что Белиз так красив. И это сочетание — документальность и красота — образовало поэзию в моем восторженном воображении. Белизские новости состояли только из сообщений об убийствах и покушениях на убийства, а также о воровстве и других преступлениях — цвета были едкие и фантастические: фиолетовые лица, зеленое небо, причем краски всегда выходили за контуры. Сообщения о преступлениях строились на полицейских протоколах со множеством нелепых для новостей подробностей — таких, например, как цвет одежды: «когда полиция ворвалась в его комнату, подозреваемый лежал на кровати в красных штанах», — и интервью с потерпевшими или свидетелями. Одно из моих белизских стихотворений полностью построено на телевизионном интервью («Из интервью Джоэля Уэйта пятому каналу белизского телевидения»), оно написано 25 мая 2009 года в Белизе и вошло в книгу «Ритуал C-4».
Между мемуарами жука и белизскими новостями еще была любовь к праву (со школы) и желание стать юристкой (работать в судебной медицине или быть следовательницей), которое не осуществилось — возможно, к счастью. И была любовь к историям, написанным мелким шрифтом, во всех этих учебниках для студентов юридических факультетов, которые я покупала и обожала читать, пока училась на дурацком факультете журналистики в Ленинграде. Так что все это вместе привело меня в 2014 году к главному циклу моей поэтической жизни (so far) — «Приговорам». «Приговоры» родились в Белизе, но самый первый приговор, из которого получилось самое первое стихотворение цикла, «а также рыжеволосая девушка по имени Ирина» (впервые опубликованное в журнале «Воздух»), я прочитала в России — он попался мне на запрос в Гугле на слово «Красногорск», куда я ездила, чтобы встретиться с одним знакомым. В декабре 2013 года я ходила по улицам, по которым ходила Ирина, я целый год думала про Ирину, я не могла ее забыть, и в декабре 2014 года я написала стихотворение «а также рыжеволосая девушка по имени Ирина», открыв цикл «Приговоры».
Н.В.: Исследователь документальных поэтических стратегий Виталий Лехциер выделяет две методологии работы с документом: описание событий, которые еще не сложились в истории, и экспонирование уже задокументированных историй. Применимо ли такое разделение к вашей практике? Если да, то с какой методологией вы работаете чаще? Как выбранная методология влияет на монтаж документальных свидетельств?
Е.Д.: Мне больше интересна фиксация происходящих или уже случившихся историй, мне думается, что документальная поэзия — апология человека, акт чистой эмпатии. Большинство современных поэтесс так или иначе становятся медиаторками и посредницами, репрезентирующими чужой опыт в тексте. Тем самым этот жест репрезентации может быть интерпретирован и как жест защиты, и, шире, как проявление эмпатии в ее деятельном смысле. Поэзия становится тем самым рупором, к которому, наконец, потянулась рука угнетенного или молчащего до сих пор. В своей работе с текстами я стараюсь быть максимально чуткой и аккуратной в том, что касается репрезентации чужого опыта: избегать ретравматизации, не занимать в тексте больше положенного места. Мне сложно четко обозначить сами стратегии письма: письмо часто происходит изнутри, совершенно не поддаваясь разуму.
Мне сложно четко обозначить сами стратегии письма: письмо часто происходит изнутри, совершенно не поддаваясь разуму.
М.М.: Поскольку в основе моих документальных текстов всегда лежит живая речь людей, то эти тексты — субъективные эмоциональные слепки тех или иных ситуаций из жизни моих героев, как частных (опыт жизни с ментальным расстройством), так и общезначимых (описание гражданской войны). Иногда я создаю второй и третий план с помощью той же криминальной хроники или реплик из соцсетей, но это всегда составляющая сложного целого, ядром которого является личное общение. И если текст представляет собой такое сложное целое, то это обусловливает и более сложный монтаж — заполнение смысловых лакун в диалоге с помощью инородной речи и, как следствие, возникновение еще большего числа лакун, иногда более значимых, чем слова — такое непрерывное расширение текста в жизнь, осуществляемое и семантически, и графически.
Л.Ю.: Я думаю, у меня третья методология — нахождение историй в задокументированном тексте.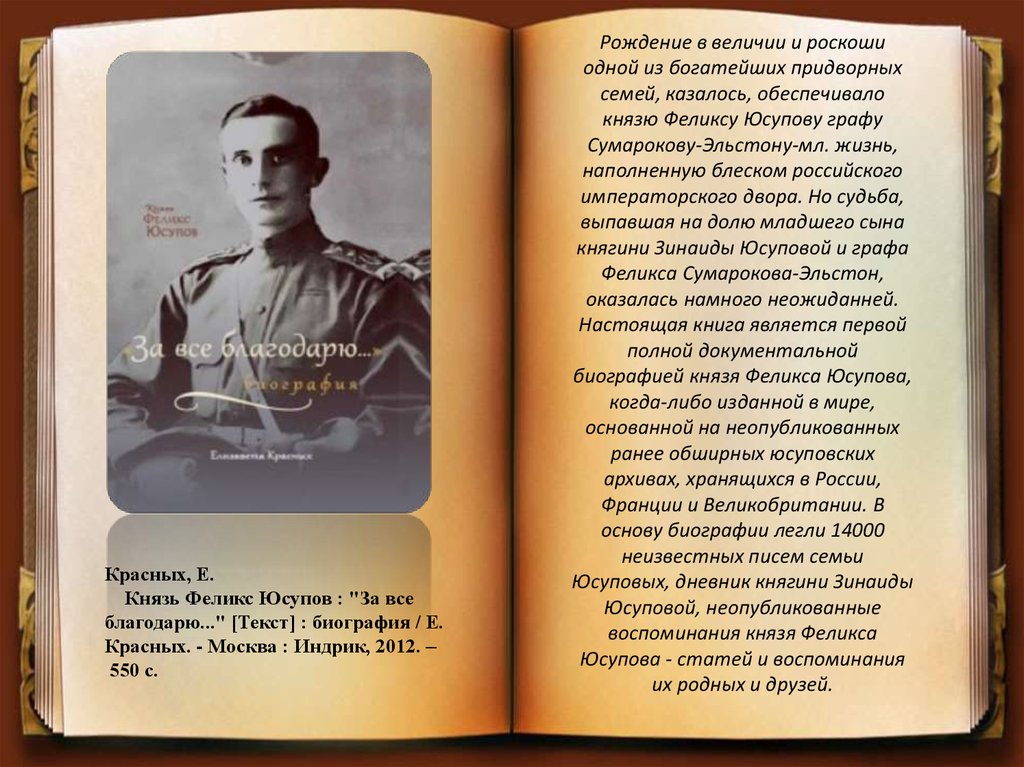 Или (и) поэтический контакт с героинями и героями документа. Для меня документ — кристалл, и я должна войти в/за эту кристаллическую решетку, в ту реальность, которая в документе существует как мистический дух. То есть я как бы медиум, и я ищу контакт с этим духом, и если контакта не получается, то не получается и стихотворения.
Или (и) поэтический контакт с героинями и героями документа. Для меня документ — кристалл, и я должна войти в/за эту кристаллическую решетку, в ту реальность, которая в документе существует как мистический дух. То есть я как бы медиум, и я ищу контакт с этим духом, и если контакта не получается, то не получается и стихотворения.
Н.В.: В сопроводительных комментариях и интервью, вы говорите о том, что многие сюжеты текстов связаны с пережитыми вами травматическими событиями. Но кроме работы с личным опытом, вы также обращаетесь к документам, свидетельствующим о травмах других людей. Как и почему вы обратились к говорению о чужом опыте через документ? Каким образом вы выстраиваете дистанцию по отношению к своим документальным и лирическим героям и героиням в тексте и в реальной жизни? Проявляются ли последние в ваши стихах? Как выбранная вами дистанция влияет на композицию, содержание и графическое оформление текста?
Е.Д.: Впервые я обратилась к документу в ходе работы над циклом SUT. Меня настолько поразили женские истории жизни и смерти, что я физически не могла спать, есть, жить, не написав этот текст. Говоря о дистанции, отмечу, что в реальной жизни чрезвычайно важно быть поддержкой герою, по-настоящему слушать и сочувствовать ему, не давить и ни в коем случае не относится к собеседнику или собеседнице лишь как к источнику информации; те же принципы, конечно, важны и в тексте, но для меня написание текста — процесс интимный, замкнутый и совершенно непредсказуемый. Происходит нечто необъяснимое, словно в голове включается радио с голосом героя или героини (после написания я всегда проверяю, чтобы речь была достоверна). Относительно устройства художественного текста: композиция всегда важна для меня. Так, для текстов, написанных в рамках «Идущего человека», форма была отражением внутреннего мира героинь, их характера и темперамента, а графическое оформление позволяло не только отделить мою речь от речи героини, но и стать тем самым предохранителем от ретравматизации и боли.
Меня настолько поразили женские истории жизни и смерти, что я физически не могла спать, есть, жить, не написав этот текст. Говоря о дистанции, отмечу, что в реальной жизни чрезвычайно важно быть поддержкой герою, по-настоящему слушать и сочувствовать ему, не давить и ни в коем случае не относится к собеседнику или собеседнице лишь как к источнику информации; те же принципы, конечно, важны и в тексте, но для меня написание текста — процесс интимный, замкнутый и совершенно непредсказуемый. Происходит нечто необъяснимое, словно в голове включается радио с голосом героя или героини (после написания я всегда проверяю, чтобы речь была достоверна). Относительно устройства художественного текста: композиция всегда важна для меня. Так, для текстов, написанных в рамках «Идущего человека», форма была отражением внутреннего мира героинь, их характера и темперамента, а графическое оформление позволяло не только отделить мою речь от речи героини, но и стать тем самым предохранителем от ретравматизации и боли.
М.М.: Если бы я выстраивала особую дистанцию по отношению к живому человеку как к документальному герою, это, на мой взгляд, было бы крайне неловко и местами неэтично, вопреки расхожему мнению. Правомерно это только в том случае, если ты приходишь к незнакомому человеку с целью написать что-то на материале его опыта, о котором, по сути, почти ничего не знаешь. Так было у меня, пожалуй, только в «Каймании», когда она приобрела форму литературно-социального проекта и я уже специально знакомилась с людьми, чтобы написать о них, и в работе над проектом «Идущий человек», когда поэтам надо было познакомиться с онкопациентами, а потом написать тексты. Но даже в этих случаях я старалась для начала узнать человека, стать ближе к нему — если не сблизиться. Ведь, может, мне самой не захочется о нем писать, даже если он будет готов делиться. Я рассказывала людям о своих проектах и о своей жизни вообще. То есть получалось — они мне о своей жизни, я им о своей. Если, конечно, сохранялся обоюдный интерес. Если нет — мы расходились, как иногда бывало в «Каймании». А если да, все получалось само собой и мы продолжали общаться, а общение по умолчанию становилось основой для текста. Кому-то было все равно, что там за текст пишется параллельно, кому-то, наоборот, очень важно, и множество других вариантов отношения к происходящему.
Если нет — мы расходились, как иногда бывало в «Каймании». А если да, все получалось само собой и мы продолжали общаться, а общение по умолчанию становилось основой для текста. Кому-то было все равно, что там за текст пишется параллельно, кому-то, наоборот, очень важно, и множество других вариантов отношения к происходящему.
В более естественной для меня ситуации, когда на первом плане общение, — документальный текст становится вовсе не мерилом дистанции, а способом ее сокращения, новой, очень важной формой связи с человеком. И я как автор становлюсь в таком случает равно (если не более) незащищенной, чем человек, который мне открывается, потому что тот, кто открывается, может закрыться в любую минуту или, допустим, мы просто-напросто поссоримся. Для моего собеседника это в принципе рядовая ссора, открылись-закрылись, он уже не думает о каких-то стихах. Я же, в свою очередь, не просто открылась ему, я в него особым образом продлилась, в его мире рождаются мои слова. И тут мир захлопывается, и вместе с этим отнимается речь, возможность говорить, а это для поэта очень тяжело.
Возвращаясь к вопросу дистанции, который для меня всегда вопрос ее сокращения, хотелось бы еще раз упомянуть метапозицию информанта по отношению к созданию документального текста на основе его рассказов, которая отражена в моем цикле «Время собственное». Это, на мой взгляд, чрезвычайно интересный психологически, этически и эстетически момент, когда человек не просто рассказывает свою историю, но и осознает себя как источник информации для создания текста, начинает против этого активно протестовать и просит задокументировать и этот протест, тем самым выходя из позиции обезличенного источника информации, но не становясь в позицию соавтора. Сокращая дистанцию по отношению ко мне, он устанавливает ее по отношению к себе, возможно, впервые решаясь отстраненно проанализировать свою травму. А в документальном стихотворении таким образом возникает некая новая форма субъектности, которую еще предстоит исследовать.
Л.Ю.: В моих последних стихах, связанных с приговорами, я позволяю себе включить мой голос в текст стихотворения, и оно уже не может быть частью цикла «Приговоры», где все слова — из приговора суда и полностью сохранена орфография документа.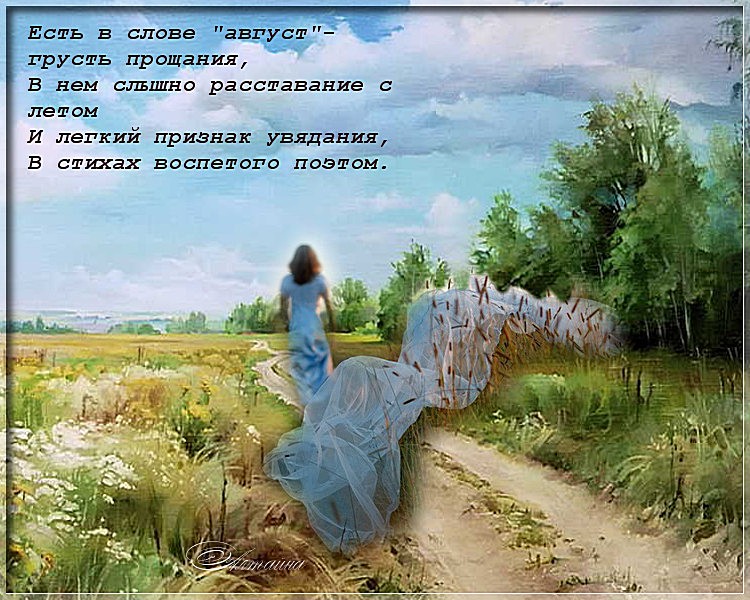 Эти стихи (например, «Следы крови на ее бюстгальтере», впервые опубликованное в «Митином журнале») условно можно назвать «Приложением к Приговорам», но, может быть, они станут частью отдельного цикла. В самых новых стихах, еще не опубликованных, но которые войдут в мою новую книгу «Шторка» — очень жду ее публикации в издательстве Центра Вознесенского! — я делаю с приговорами то, что немного делала в «Лоскутном одеяле» и по поводу чего Иван Соколов на презентации книги «Dead Dad» в «Порядке слов» обвинил меня в неэтичности (но я не согласна с Ваней): я нахожу красоту в документах о страдании. Мне всегда вспоминается автобус, едущий в Бельмопан, столицу Белиза, — я ехала к другу, бывшему гангстеру, пострадавшему от поножовщины и теперь лежащему парализованным в доме брата-полицейского. Ехала среди джунглей и гор, автобус был полон, и вдруг я увидела удивительное: оранжевый бант женщины, сидящей на некотором отдалении впереди меня, точно такая же оранжевая юбка женщины, вошедшей в автобус, такая же оранжевая сумка на полке под потолком: можно представить, что автобус — это документ, и оранжевый цвет предметов, случайно совпавший, не имеет вообще никакого значения (как красные штаны «подозреваемого»! и, кстати, это именно тот человек, который поранил моего друга), роли, смысла в этом документе, но этот оранжевый цвет заставляет меня трепетать, он возносит автобус в другую реальность (поэтическую) — мой взгляд, соединивший оранжевые предметы, время и место, соединившие их, и меня, и автобус, и разных людей в автобусе, и моего парализованного друга, жизнь которому я еду спасать, и его брата-копа, и Бельмопан на реке Мопан, и Белиз…
Эти стихи (например, «Следы крови на ее бюстгальтере», впервые опубликованное в «Митином журнале») условно можно назвать «Приложением к Приговорам», но, может быть, они станут частью отдельного цикла. В самых новых стихах, еще не опубликованных, но которые войдут в мою новую книгу «Шторка» — очень жду ее публикации в издательстве Центра Вознесенского! — я делаю с приговорами то, что немного делала в «Лоскутном одеяле» и по поводу чего Иван Соколов на презентации книги «Dead Dad» в «Порядке слов» обвинил меня в неэтичности (но я не согласна с Ваней): я нахожу красоту в документах о страдании. Мне всегда вспоминается автобус, едущий в Бельмопан, столицу Белиза, — я ехала к другу, бывшему гангстеру, пострадавшему от поножовщины и теперь лежащему парализованным в доме брата-полицейского. Ехала среди джунглей и гор, автобус был полон, и вдруг я увидела удивительное: оранжевый бант женщины, сидящей на некотором отдалении впереди меня, точно такая же оранжевая юбка женщины, вошедшей в автобус, такая же оранжевая сумка на полке под потолком: можно представить, что автобус — это документ, и оранжевый цвет предметов, случайно совпавший, не имеет вообще никакого значения (как красные штаны «подозреваемого»! и, кстати, это именно тот человек, который поранил моего друга), роли, смысла в этом документе, но этот оранжевый цвет заставляет меня трепетать, он возносит автобус в другую реальность (поэтическую) — мой взгляд, соединивший оранжевые предметы, время и место, соединившие их, и меня, и автобус, и разных людей в автобусе, и моего парализованного друга, жизнь которому я еду спасать, и его брата-копа, и Бельмопан на реке Мопан, и Белиз…
Н. В.: В рецензиях на ваши тексты часто встречается слово «эмпатия». Оксана Васякина называет эмпатию «одним из самых главных элементов поэтики Лиды Юсуповой»; Нина Александрова характеризует авторский взгляд Еганы Джаббаровой как «взгляд, который разворачивает истории о любви и хрупкости»; Виталий Лехциер пишет о документальном методе Марии Малиновской как «о практике взаимного дарения поэта-документалиста и его персонажей». Одновременно с этим ведутся дискуссии о том, что документальная поэзия проблематизирует субъектность и власть автор_ки, так как он_а задает форму репрезентации чужого опыта. Чем для вас является эмпатия? Как вы со-настраиваете собственную поэтическую субъектность с множественностью агентностей людей, чья речь звучит в ваших текстах?
В.: В рецензиях на ваши тексты часто встречается слово «эмпатия». Оксана Васякина называет эмпатию «одним из самых главных элементов поэтики Лиды Юсуповой»; Нина Александрова характеризует авторский взгляд Еганы Джаббаровой как «взгляд, который разворачивает истории о любви и хрупкости»; Виталий Лехциер пишет о документальном методе Марии Малиновской как «о практике взаимного дарения поэта-документалиста и его персонажей». Одновременно с этим ведутся дискуссии о том, что документальная поэзия проблематизирует субъектность и власть автор_ки, так как он_а задает форму репрезентации чужого опыта. Чем для вас является эмпатия? Как вы со-настраиваете собственную поэтическую субъектность с множественностью агентностей людей, чья речь звучит в ваших текстах?
Е.Д.: Для меня эмпатия — с одной стороны, апология, защита угнетенных, с другой — акт любви, разжатые руки, стремящиеся обнять. Мне кажется, в каждом из нас есть любовь и есть боль угнетения: именно через совместное проживание и деятельное сострадание возможно найти дорогу друг к другу.
М.М.: Рассуждения о власти автор_ки, задающей форму репрезентации чужого опыта, на мой взгляд, надуманны. Если рассказчик истории хочет задать эту форму сам, он не сотрудничает с документалистом, а пишет свой текст. Большинство же героев, к примеру, «Каймании» даже не думали, что их опыт, их повседневные переживания могут быть интересны стороннему человеку. У них и мысли не возникало написать об этом художественный текст: по их мнению, его никто бы не стал читать, ведь даже в повседневной жизни их мало кто готов выслушать. Сам опыт общения с документалистом как с заинтересованным в тебе человеком — это ненавязчивая психотерапия. А придать чужой речи форму, поработать с ней, обсудить с рассказчиком результат, если ему интересен этот результат, — акт поддержки, внимания и участия, а не проявления власти. Это сотворчество, включение часто одинокого человека в своего рода коллаборацию — то, чего большинству моих респондентов остро не хватает. Эмпатия — неотъемлемая часть подобного взаимодействия, но для меня она чаще всего остается внетекстовым фактором: навязывать ее читателю, на мой взгляд, не стоит.
Л.Ю.: В детстве я научилась отличать явь от сна или сон от яви: во сне я вижу себя со стороны. Эмоции во сне те же, что наяву (абсолютно те же, та же интенсивность, это уже и измерялось, и фиксировалось в исследованиях работы мозга). То есть во сне мы видим себя со стороны, но переживаем так же, как когда мы смотрим из себя на мир вокруг нас. Во сне мы можем быть другими я. Я могу быть мужчиной или женщиной, или одновременно мужчиной и женщиной, то есть двумя я. Или я могу быть не той и не другим.
Я всегда визуализирую то, о чем пишу. У меня вообще очень буйная визуализация воображаемого — образы постоянно возникают сами по себе, витают в воображении, вместе с обрывками фраз, словами, не галлюцинации, а именно воображаемое, я знаю, что это мое воображение, и оно просто играет, как щенок, я раньше думала, что у всех так, и только недавно узнала, что не у всех. Вокруг нас вселенная, мы облепили шар, мы живем короткие жизни, нас не так и много, учитывая то, что вокруг нас вообще никого, насколько нам (на данный момент) известно. Мы, по сути, все — одно я. Я, которое живет в одном сейчас. Я не могу испытывать эмпатию к себе десятилетней. Я много раз пыталась представить себя сегодняшнюю, наклоняющуюся над собой-ребенком, а я была несчастным ребенком, то есть буквально не знала, что такое счастье (я узнала это ощущение только в 23 года, благодаря наркотикам, моему короткому знакомству с ними, я быстро вытащила себя из этого знакомства, но так получилось, что они успели научить меня испытывать эмоцию счастья, и до сих пор я считаю себя счастливым человеком, и счастье — мое нормальное состояние). Да, я пытаюсь представить встречу себя сегодняшней с собой в детстве — я должна переноситься в детство, то есть место встречи — мир, каким он был тогда, — и я просто не могу это сделать: я исчезаю — нет меня сегодняшней и нет меня прошлой, меня нет… Я вижу пустоту. Я как будто себя собой исключаю. Как будто я не рождалась. Мир без меня. Может быть, таким образом я исключаю свою несчастность. Не знаю. Мы можем испытывать эмпатию к другим, но не к себе.
Мы, по сути, все — одно я. Я, которое живет в одном сейчас. Я не могу испытывать эмпатию к себе десятилетней. Я много раз пыталась представить себя сегодняшнюю, наклоняющуюся над собой-ребенком, а я была несчастным ребенком, то есть буквально не знала, что такое счастье (я узнала это ощущение только в 23 года, благодаря наркотикам, моему короткому знакомству с ними, я быстро вытащила себя из этого знакомства, но так получилось, что они успели научить меня испытывать эмоцию счастья, и до сих пор я считаю себя счастливым человеком, и счастье — мое нормальное состояние). Да, я пытаюсь представить встречу себя сегодняшней с собой в детстве — я должна переноситься в детство, то есть место встречи — мир, каким он был тогда, — и я просто не могу это сделать: я исчезаю — нет меня сегодняшней и нет меня прошлой, меня нет… Я вижу пустоту. Я как будто себя собой исключаю. Как будто я не рождалась. Мир без меня. Может быть, таким образом я исключаю свою несчастность. Не знаю. Мы можем испытывать эмпатию к другим, но не к себе.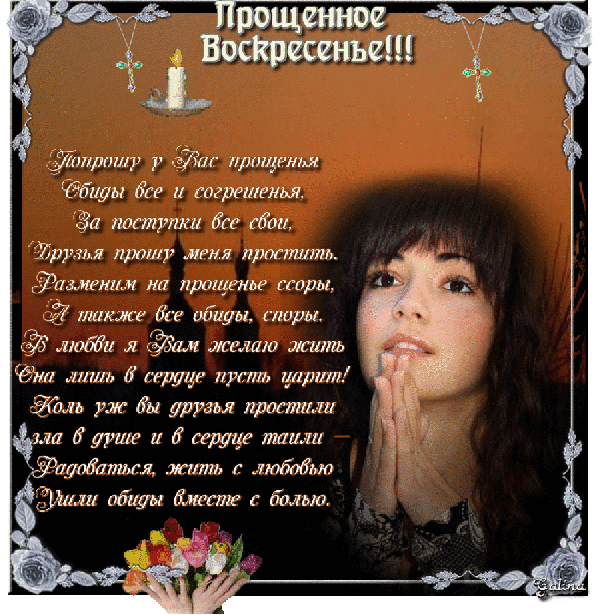
Н.В.: Кому принадлежит язык прямой речи/документа в пространстве поэтического текста: автор_ке текста, котор_ая производит монтаж, или автор_ке прямой речи/документа? Как вы настраиваете разные языки внутри текста? Почему становится важным авторское не-вторжение в документальный текст на уровне слова и как с такой формой не-вторжения соотносится авторский монтаж?
Е.Д.: Говоря о работе с языком, я вспоминаю лекцию Виталия Лехциера и обозначенный им «фрейм документальности» — именно он очень важен для меня и часто реализуется посредством графического оформления: курсив, подчеркивание, скобки и другие. Мне кажется, что не-вторжение в документальный текст чрезвычайно важно, поскольку это важнейший принцип согласованности, сопричастности, репрезентации, а не манипуляции или спекуляции. Авторский монтаж, будучи инструментом, способен не просто указывать на позицию автор_ки, но и делать текст выразительнее, правильно расставлять акценты (конечно же, с учетом истории героя и самого героя).
М.М.: Конечно, если брать традиционное документальное стихотворение (без соединения речи информанта с авторской и т.д.), язык принадлежит автор_ке прямой речи. Не-вторжение в документальный текст важно именно потому, что в подобном случае это и основная задача — дать высказаться другому, а монтаж в принципе должен этому служить, а не становиться огородом для козла авторского самовыражения, уж простите красочную метафору. Навязывание читателю какого-либо мнения — дурной тон и в гораздо более традиционных жанрах, так зачем же привносить его в документальный, который как раз и основывается на беспристрастности подачи и чистоте восприятия. Как автор я далеко не фанат графического оформления одних фраз в тексте как более важных и отодвигания на второй план других. Не раз читатели острее всего реагировали именно на те места в моих текстах, которые мне казались второстепенными. А разные языки внутри одного произведения я настраиваю интуитивно — слушаю сами голоса и свой текст как живую подвижную структуру. Теоретическое осмысление приходит потом, и иногда я сама удивляюсь некоторым неосознанным решениям.
Теоретическое осмысление приходит потом, и иногда я сама удивляюсь некоторым неосознанным решениям.
Л.Ю.: Я всегда стараюсь сохранить язык документа полностью. Каждую маленькую опечатку, каждое случайно возникшее пространство между словом и запятой, то есть все неправильности документального текста. Если в документе есть прямая речь, это всегда очень интересно. Кому принадлежит прямая речь, сказанная в зале суда или процитированная, а затем внесенная в текст приговора, а затем перенесенная в сетевую базу документов, а затем ставшая (или не ставшая) частью стихотворения? Рыжеволосая девушка по имени Ирина лежит лицом вниз в ручье глубиной 35 сантиметров, и я нахожу его на гугл-карте — кто знает, когда этот ручей и эти темно-зеленые кроны деревьев были сфотографированы со спутника (лежит ли она там, невидимая? как несчастный автомобилист до сих пор находящийся на гугл-карте, скрытый очертаниями своего утонувшего в пруду автомобиля), — и убийца говорит своим друзьям: «ее больше нет на этом свете», через несколько месяцев один из друзей повторит эту фразу в зале суда, через какое-то время она будет произнесена судьей, читающим приговор, а затем эта фраза утонет в информационном море интернета, а затем я случайно выловлю этот приговор, напишу свое первое стихотворения цикла «Приговоры», а затем, вот сейчас, я повторяю ее за убийцей, за его другом, за судьей, но я отбираю ее у них, потому что и друг, и судья сочувствовали убийце, а я отбираю у них эти слова и возвращаю Ирине: «ее больше нет на этом свете».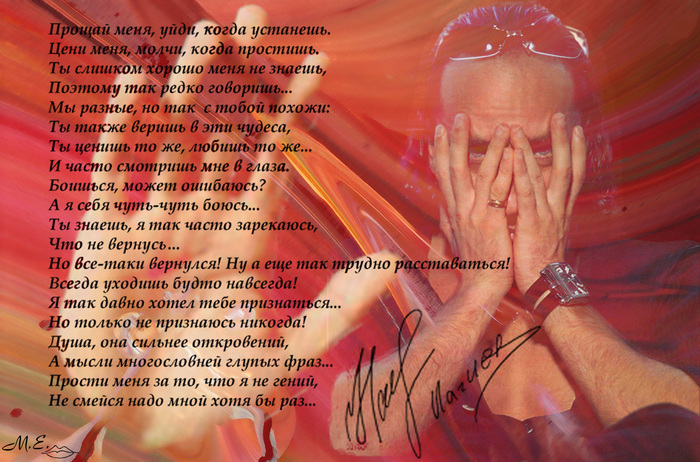 И получается, что принадлежность прямой речи подвижна. Как вода ручья. Water under the bridge.
И получается, что принадлежность прямой речи подвижна. Как вода ручья. Water under the bridge.
Н.В.: Одна из задач, которую вы ставите в документальной работе, — это попытка высвободить людей с опытом насилия из пространства насилия, вернуть им голос, восстановить их истории. Но в самих текстах часто встречаются подробные описания совершенного насилия, обстоятельств смерти и поведения агрессоров, в то время как люди с опытом насилия представлены через категории «жертвы» и «травмы». Каким образом вы соотносите описание насилия в тексте с возможностями высвобождения людей из этого опыта? Является ли такое соотношение для вас конфликтным? Какую роль в (вос)создании пространства чужого опыта занимают категории «жертвы» и «травмы»? Возможны ли эмпатия и критика насилия через пере-описание актов насилия?
Е.Д.: В случае с темой насилия крайне затруднительно избежать описания самих актов этого насилия, и в этом отношении выжать из него последнюю каплю звука и смысла кажется одной из самых интересных и непростых стратегий. В отношении документальной поэзии мне близки точки зрения Виталия Лехциера и Ильи Кукулина, обозначающих, что документальная поэзия существует на самой границе fiction и non-fiction и разворачивается в эстетическом и социальном плане. Однако хотелось бы обозначить, что это именно пограничное состояние, позиция трикстера, о которой много пишет Мадина Тлостанова, переход в социальное неминуемо влечет за собой «журналистику» вместо поэзии, а сугубо эстетическое может быть расценено как «обесценивание» чужого опыта или спекуляция им.
В отношении документальной поэзии мне близки точки зрения Виталия Лехциера и Ильи Кукулина, обозначающих, что документальная поэзия существует на самой границе fiction и non-fiction и разворачивается в эстетическом и социальном плане. Однако хотелось бы обозначить, что это именно пограничное состояние, позиция трикстера, о которой много пишет Мадина Тлостанова, переход в социальное неминуемо влечет за собой «журналистику» вместо поэзии, а сугубо эстетическое может быть расценено как «обесценивание» чужого опыта или спекуляция им.
Самым важным, на мой взгляд, остается ощущение выхода и солидарности, превалирующее над ужасом и агрессией. Говоря о насилии, важно не акцентировать насильника и угнетателя, интереснее расшатать саму систему, в которой это происходит. Сместить фокус с центра на периферию, на тех, кто находился до нынешнего момента вне поля зрения и колонизировался, осмыслялся как незначимый и незначительный. И, к счастью, поле актуальной поэзии становится местом подобного равенства и репрезентации всех.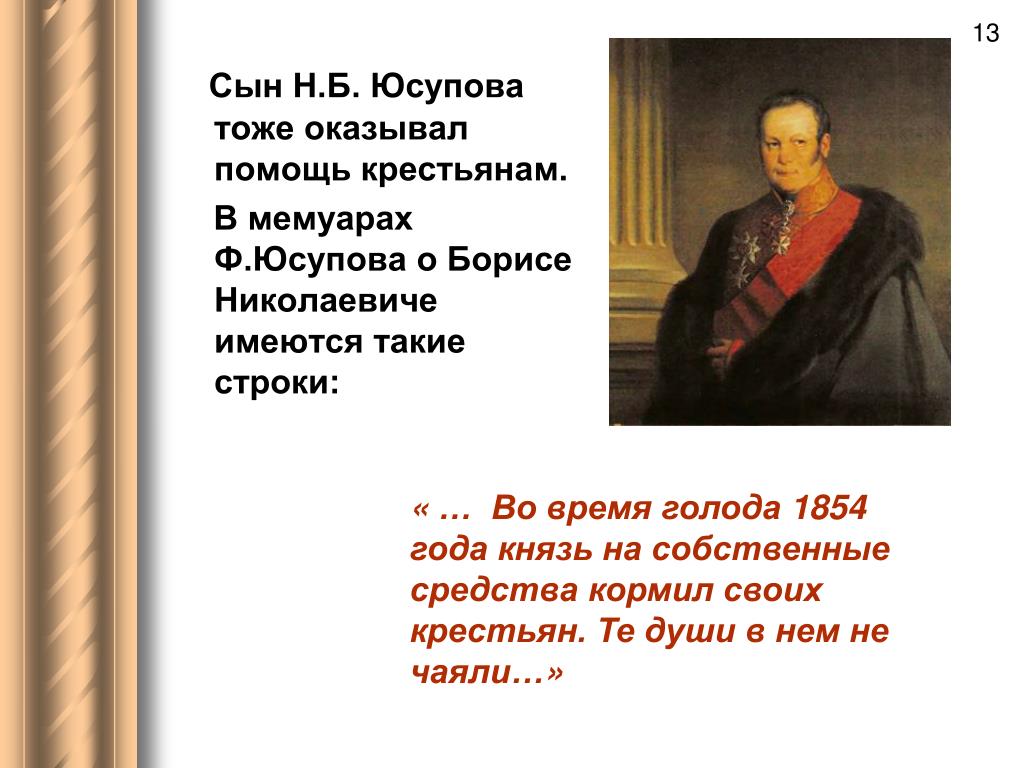 В некоторых случаях проговаривание, прописывание — единственный способ пережить/со-пережить и, что не менее важно, способ сделать боль видимой и узнаваемой. Важно, чтобы не происходило ретравматизации, избежать которую непросто, но необходимо. Относительно пере-описания актов насилия, мне думается, это возможно, но только после того, как в целом весь язык переживет трансформацию.
В некоторых случаях проговаривание, прописывание — единственный способ пережить/со-пережить и, что не менее важно, способ сделать боль видимой и узнаваемой. Важно, чтобы не происходило ретравматизации, избежать которую непросто, но необходимо. Относительно пере-описания актов насилия, мне думается, это возможно, но только после того, как в целом весь язык переживет трансформацию.
М.М.: Мы «высвобождаемся» (Н.В.), когда рассказываем, когда вместе с кем-то анализируем ситуацию. А потом появляется текст с описанием твоей истории, и она эмоционально отделяется от тебя, это ты и уже не ты, история соответствует реальности и неизбежно расходится с ней, но, расходясь, забирает часть той тяжести, которую ты раньше нес один. Это могу сказать и по собственному опыту — когда фиксировала свои мысли и действия для поэмы «Причальный проезд», и по опыту героев «Каймании», которым тексты позволили взглянуть на себя со стороны, и по опыту рассказчика из «Времени собственного», который прямо в процессе нашей работы сумел отстраниться от пережитой боли и задуматься над тем, как нужно об этой боли говорить. В этом смысле чем больше травмирующих деталей зафиксировано в тексте, тем меньше их остается в повседневных мыслях человека, чем живее описание событий, тем оно бледнее в памяти. Оно оживает при прочтении текста, но уже в воображении, это уже не ты, это мысленный фильм о тебе, своего рода оправдание тому, что было, зафиксированная стадия той жизни, которая уже позади. Как следует из этого, «соотношение описания насилия в тексте с возможностями высвобождения людей из этого опыта конфликтным» (Н.В.) для меня не является. Процесс работы над подобным текстом может быть тяжелым для обеих сторон, но я не берусь за такие вещи, если с человеком нет эмоционального контакта. А если контакт есть, то это и тяжело, и интересно, и даже местами весело — ведь вы же общаетесь, где-то встречаетесь, что-то делаете или по видеосвязи показываете друг другу свой дом или свой город, даете друг другу место в своей жизни. Кое-кто из героев «Каймании» однажды решил побыть для меня медиумом для общения с его голосами; герой «Времени собственного», живущий в африканской стране, однажды по пути на работу настолько увлекся беседой со мной по видеосвязи, что был остановлен местным ГАИ, но когда инспектор увидел меня на экране его телефона, то сказал только: «Вау, белая девушка! Мужик, ты счастливчик», — и отпустил; герой поэмы «На горе Бокор» показывал мне уникальные фотографии, снятые им в жилищах мальчиков-проститутов из Камбоджи, Вьетнама и с острова Суматры; герой поэмы «Серые новости» знакомил меня со своими родственниками, высокопоставленными сотрудниками спецслужб Египта, у которых больше невероятных историй, чем может вместить любая документальная поэма, и обещал познакомить с бедуинским шейхом.
В этом смысле чем больше травмирующих деталей зафиксировано в тексте, тем меньше их остается в повседневных мыслях человека, чем живее описание событий, тем оно бледнее в памяти. Оно оживает при прочтении текста, но уже в воображении, это уже не ты, это мысленный фильм о тебе, своего рода оправдание тому, что было, зафиксированная стадия той жизни, которая уже позади. Как следует из этого, «соотношение описания насилия в тексте с возможностями высвобождения людей из этого опыта конфликтным» (Н.В.) для меня не является. Процесс работы над подобным текстом может быть тяжелым для обеих сторон, но я не берусь за такие вещи, если с человеком нет эмоционального контакта. А если контакт есть, то это и тяжело, и интересно, и даже местами весело — ведь вы же общаетесь, где-то встречаетесь, что-то делаете или по видеосвязи показываете друг другу свой дом или свой город, даете друг другу место в своей жизни. Кое-кто из героев «Каймании» однажды решил побыть для меня медиумом для общения с его голосами; герой «Времени собственного», живущий в африканской стране, однажды по пути на работу настолько увлекся беседой со мной по видеосвязи, что был остановлен местным ГАИ, но когда инспектор увидел меня на экране его телефона, то сказал только: «Вау, белая девушка! Мужик, ты счастливчик», — и отпустил; герой поэмы «На горе Бокор» показывал мне уникальные фотографии, снятые им в жилищах мальчиков-проститутов из Камбоджи, Вьетнама и с острова Суматры; герой поэмы «Серые новости» знакомил меня со своими родственниками, высокопоставленными сотрудниками спецслужб Египта, у которых больше невероятных историй, чем может вместить любая документальная поэма, и обещал познакомить с бедуинским шейхом. Может, когда-нибудь и познакомит.
Может, когда-нибудь и познакомит.
Думаю, очевидно, что «роль категорий жертвы и травмы в (вос-) создании пространства чужого опыта» (Н.В.) в моем случае минимальна. Как сказал герой поэмы «Время собственное», в ответ на мой вопрос о переживании травмы: «Это жизнь, и ничего в ней особого». Эти слова звучат вполне парадоксально в контексте рассказа о том, как его семью эвакуировали из подожженного повстанцами дома, но тем больше в них правды.
Л.Ю.: В предисловии к циклу «Приговоры» я обратилась к жертве гомофобного убийства Виталию Игоревичу Мингазову: «Мы с вами, Вы не один». Описывая насилие, мы оказываемся на месте преступления, рядом с жертвой — и таким образом, жертва перестает быть одинока: переносясь во времени, мы разделяем с ней ее «сейчас». В стихотворении «Тяжелая сырая палка» жертва становится мстительницей, и продолжение повторения слова «удары» (жирным шрифтом — так в приговоре) равно длине эмоциональной волны (отчаяние и ярость накатываются и длятся) моей, когда я писала этот текст.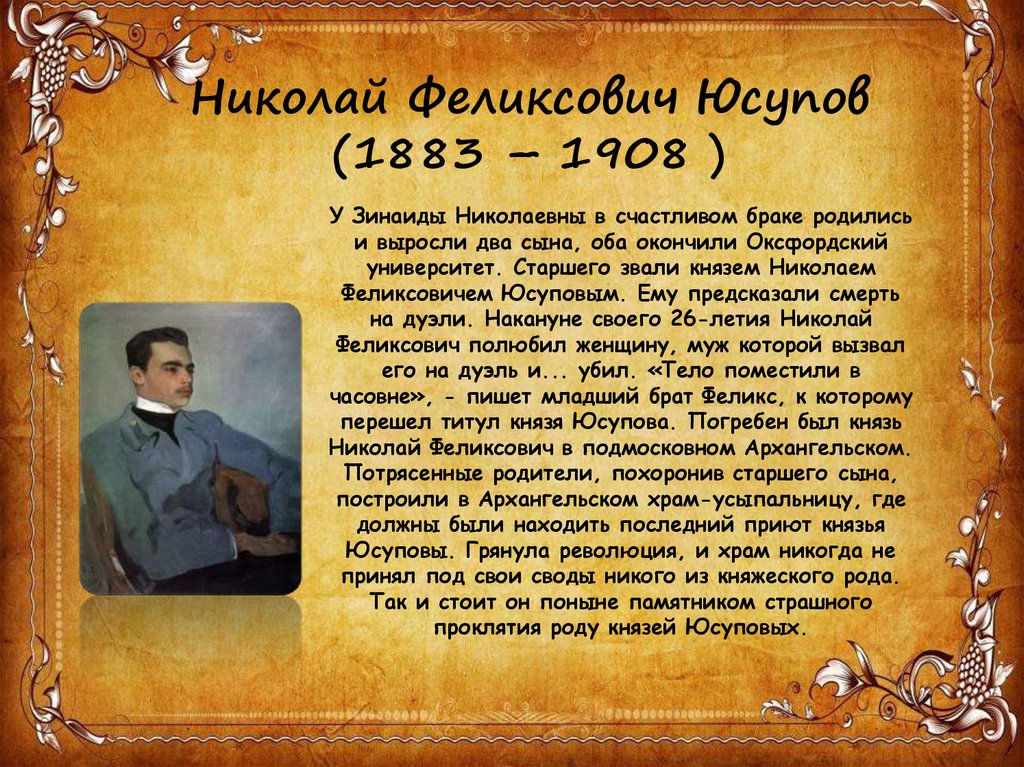 На сайте Ф-письма скоро должно появиться мое новое стихотворение «Лида», где жертва домашнего насилия становится мстительницей, avenger, и я мечтаю сделать из этого стихотворения комикс в стиле Marvel или каком-то другом, где моя героическая мстительница восторжествует в конце.
На сайте Ф-письма скоро должно появиться мое новое стихотворение «Лида», где жертва домашнего насилия становится мстительницей, avenger, и я мечтаю сделать из этого стихотворения комикс в стиле Marvel или каком-то другом, где моя героическая мстительница восторжествует в конце.
Н.В.: В прошлом году поэтесса Галина Рымбу выложила пост в Фейсбуке, где критиковала нерефлексивное использование языков насилия и предлагала отказываться от них в пользу новых конструкций. Поэтессу поддержала Дарья Серенко, написавшая поэтический текст в ответ. Согласны ли вы с Рымбу в том, что язык отражает политические и социокультурные нормы разных сообществ? Или вы считаете, что язык — это нейтральный инструмент коммуникации? Возможна ли критика насилия через уже существующий язык или необходимо вырабатывать новые нормы?
Е.Д.: Я полностью согласна с Галиной Рымбу, мне кажется, что это чрезвычайно важный акт — пересмотр языка, своеобразная трансформация его из языка бьющего, языка насилия в язык нежный, чуткий к другому. Относительно текстов вокруг насилия, как и вокруг расизма, вопрос действительно острый и непростой, мне думается, что в некоторых случаях использование существующего языка возможно: в случае, когда происходит «кастрация» этого языка, его использование против самого себя. Надеюсь, что нынешние поэтические практики способствуют медленному, но важному созданию нового языка.
Относительно текстов вокруг насилия, как и вокруг расизма, вопрос действительно острый и непростой, мне думается, что в некоторых случаях использование существующего языка возможно: в случае, когда происходит «кастрация» этого языка, его использование против самого себя. Надеюсь, что нынешние поэтические практики способствуют медленному, но важному созданию нового языка.
М.М.: Не припомню, о каком именно посте идет речь. Но, отвечая на поставленный вопрос, — если ты работаешь с языком, то безусловно долж_на понимать, что именно ты пишешь и как это может быть прочитано сегодня. Что ты будешь делать с этим знанием — использовать его, чтобы выстраивать новые формы письма и прочтения или просто чтобы не попасть впросак, — личное дело кажд_ой. На мой взгляд, новые способы высказывания о чем угодно, в том числе и о насилии, нужны всегда. Мы живем в меняющемся мире, в котором некоторые вещи не меняются или меняются очень медленно, ценой чьих-то жизней. И о том, что не меняется, тоже важно говорить по-новому. Это шанс быть услышанными.
Это шанс быть услышанными.
Для меня в принципе важно, чтобы в каждом тексте было что-то новое хотя бы для меня самой, чтобы написанный текст не являлся повторением предыдущего, даже более удачным, чтобы стихотворения как минимум складывались в циклы с неким единым внутренним движением, а между собой циклы и поэмы различались уже существенно — и тематикой, и поэтикой. Это непрерывный поиск, желание выразить не выразимое существующими средствами языка и (пере-)создание самих этих средств.
Л.Ю.: Конечно, я согласна с Галиной Рымбу. В том же моем стихотворении «Тяжелая сырая палка» я пишу о том, как изнасилование в российском законе определяется исключительно с позиции мужчины — изнасиловать женщину может только мужской член. А если, как в другом моем стихотворении, связанным с предыдущим, насильник действует палкой, то, по российскому закону, это уже не изнасилование, а причинение вреда здоровью — российскому закону не важно, что чувствует женщина, российскому закону важно только сексуальное желание мужчины: если мужчина скажет, что он засунул женщине палку во влагалище для удовлетворения своих сексуальных желаний, тогда его будут судить за насильственные сексуальные действия (срок тот же, что и за изнасилование), а если, как Буханцов («взял деревянную палку и с силой засунул ей эту палку во влагалище»), он скажет, что сделал так из неприязни, то сексуальным насилием это считаться не будет. Российский закон смотрит на «половой акт» только как на акт оплодотворения женщины, то есть секс законно в России — это исключительно процесс, при котором может получиться ребенок, все остальное — оральный, анальный секс, секс с помощью предметов — российский закон рассматривает как имитацию полового акта и не признает этим самым половым актом, то есть сексом, то есть сексуальные действия не считаются сексом. Но разве изнасилование — это половой акт? Конечно, нет. Но почему же российский закон связывает изнасилование с половым актом? Это такая глубокая и опасная патриархальность и в то же время такая привычная, что многие даже никогда не задумывались, что этот ужас есть в российском уголовном праве. О какой нейтральности языка тут может идти речь? Законы написаны для нас — для того, чтобы защитить нас. Мы не должны быть юристами, чтобы понимать их. Женщины должны добиться изменения законов об изнасиловании в России! И начинать надо именно со слов. И поэзия может это сделать. Я пытаюсь это сделать в «Тяжелой сырой палке».
Российский закон смотрит на «половой акт» только как на акт оплодотворения женщины, то есть секс законно в России — это исключительно процесс, при котором может получиться ребенок, все остальное — оральный, анальный секс, секс с помощью предметов — российский закон рассматривает как имитацию полового акта и не признает этим самым половым актом, то есть сексом, то есть сексуальные действия не считаются сексом. Но разве изнасилование — это половой акт? Конечно, нет. Но почему же российский закон связывает изнасилование с половым актом? Это такая глубокая и опасная патриархальность и в то же время такая привычная, что многие даже никогда не задумывались, что этот ужас есть в российском уголовном праве. О какой нейтральности языка тут может идти речь? Законы написаны для нас — для того, чтобы защитить нас. Мы не должны быть юристами, чтобы понимать их. Женщины должны добиться изменения законов об изнасиловании в России! И начинать надо именно со слов. И поэзия может это сделать. Я пытаюсь это сделать в «Тяжелой сырой палке».
Н.В.: Анализируя документальные стратегий в поэзии, некоторые критики и исследователи пользуются категориями «достоверности» и «истинности». Обращаясь к ним, они поддерживают такие режимы производства знания, при которых возможны «позиция извне», «объективное знание» и другие проявления неравных отношений власти. Феминистские эпистемологии указывают на патриархатное происхождение таких режимов и настаивают на необходимости проблематизировать «объективность» как доминирующий дискурс, который исключает множество опытов. Важны ли для вас эти категории в работе с документальными свидетельствами? Каким образом в ваших текстах конструируется реальность, в отношении которой производится критика?
Е. Д.: Исследовательница Давлатбегим Мамадшоева в работе «Слушая истории женщин: противоречивая роль феминистских методологий в исследованиях Центральной Азии» говорит о противоречивом и, как следствие, в некоторых случаях невозможном принципе «Держите глаза и уши открытыми, но рот на замке». Она приводит в пример Энн Оукли и ее подход, основанный на развитии тесных и взаимных отношений с информантками. И хотя Мамадшоева в данном случае рассуждает о принципах работы феминистских исследований, мне думается, что подобное «отчуждение» также невозможно и в случае создания художественного текста. Попытка отдалиться или надеть свинцовый воротник, подобно работнику рентгена, при описании и репрезентации чужих историй и личных трагедий может привести к тому, что сам пишущий в данном случае обесценит этот опыт, поскольку не готов вобрать его в себя. Мне думается, что создание «альтернативного нарратива» и художественные образы как раз позволяют избежать этой ре-травмы и пережить прошлое, трансформируя его в будущее. В этом отношении, к примеру, примечательны те стратегии, которые используются в афрофутуризме.
Она приводит в пример Энн Оукли и ее подход, основанный на развитии тесных и взаимных отношений с информантками. И хотя Мамадшоева в данном случае рассуждает о принципах работы феминистских исследований, мне думается, что подобное «отчуждение» также невозможно и в случае создания художественного текста. Попытка отдалиться или надеть свинцовый воротник, подобно работнику рентгена, при описании и репрезентации чужих историй и личных трагедий может привести к тому, что сам пишущий в данном случае обесценит этот опыт, поскольку не готов вобрать его в себя. Мне думается, что создание «альтернативного нарратива» и художественные образы как раз позволяют избежать этой ре-травмы и пережить прошлое, трансформируя его в будущее. В этом отношении, к примеру, примечательны те стратегии, которые используются в афрофутуризме.
В ходе работы с циклом «Позы Ромберга» невольно появились и органично вросли образы из исламской эсхатологии, это не был сознательный акт самоэкзотизации, напротив: скорее появление образа стало тем самым предохранителем, который позволяет не выгореть и выстроить необходимую дистанцию от собственного опыта, дабы избежать сублимации. В случае же с чужими историями соседок по палате образы позволяли выстроить альтернативную реальность, дать «условный» выход, тем самым высвободить их из страшного телесного опыта и больничных стен. В некоторой степени это процесс схожий с психоанализом, но вот в каком плане: недостаточно просто явить человеку прошлое и травму, необходимо сделать так, чтобы говорящий смог самостоятельно перестать в него возвращаться и посмотрел вперед.
В случае же с чужими историями соседок по палате образы позволяли выстроить альтернативную реальность, дать «условный» выход, тем самым высвободить их из страшного телесного опыта и больничных стен. В некоторой степени это процесс схожий с психоанализом, но вот в каком плане: недостаточно просто явить человеку прошлое и травму, необходимо сделать так, чтобы говорящий смог самостоятельно перестать в него возвращаться и посмотрел вперед.
По этим причинам принцип «объективности» вызывает во мне беспокойство. Относительно «достоверности» и «истинности», мне думается, что это также очень трудно, поскольку действительность всегда проходит сквозь рамки наших глаз и нашего опыта, вместо вышеперечисленных принципов мне важнее оставаться максимально тактичной, аккуратной, избегать ретравматизации и, конечно, соблюдать принцип согласованности и совместности как основной.
М.М.: Для меня важно как раз показать зыбкость любого представления о реальности, объективность невероятного и недостоверность объективного, дать высказаться множеству людей с их правдами и предоставить читателю право верить или не верить, наслаждаться или быть шокированным, осуждать или сочувствовать. Я за искренность любой коммуникации, потому что в итоге она оборачивается меньшим злом, чем наигранная корректность.
Я за искренность любой коммуникации, потому что в итоге она оборачивается меньшим злом, чем наигранная корректность.
Л.Ю.: Я никогда не могу быть вне насилия, потому что я женщина. Я не могу пойти ночью на улицу и просто гулять по ночному городу. Я буду оглядываться. И опасность будет исходить исключительно от мужчин. Я буду бояться быть убитой или изнасилованной мужчинами. Когда я читаю о насилии, я знаю, что это могла быть я — на месте жертвы. Или — на месте мстительницы. Жертва может быстро превратиться в мстительницу. В моих текстах реальность — это сторрителлинг; я всегда визуализирую историю — но не снаружи, а глазами тех, с кем она происходит. В то же время, как автор, я имею власть над реальностью и власть дать эту власть моим героиням и героям.
Н.В.: Как вы определяете для себя современную феминистскую поэзию на русском языке и свое место в ней? Проект «Поэтика феминизма», недавняя публикация англоязычной антологии F-letter, статьи о семинаре и платформе Ф-письмо и другие проекты, публикации и образовательные инициативы очерчивают пространства, поэтики, задачи и фигуры современного русскоязычного феминистского поэтического письма. Эти формулировки разнообразны и иногда противоречивы, на что указывают сами автор_ки, подчеркивая не-гомогенность феминистских поэтических сообществ. С кем из современни_ц вы вступаете в диалог и выстраиваете связи? Кого считаете важными предшественни_цами?
Эти формулировки разнообразны и иногда противоречивы, на что указывают сами автор_ки, подчеркивая не-гомогенность феминистских поэтических сообществ. С кем из современни_ц вы вступаете в диалог и выстраиваете связи? Кого считаете важными предшественни_цами?
Е. Д.: Для меня современная феминистская поэзия — это место, где женщины, будучи угнетенными, наконец, могут говорить, может, поэтому очень часто феминистская поэзия затрагивает и поле политического, это рупор тех, кто долгое время не мог сказать или не обладал правом на речь. Мне хотелось бы верить, что это диалог со всеми женщинами, но я прекрасно понимаю, что само понятие «женщины» крайне неоднозначно, часто гендер соприкасается с расой, социальным положением, культурным полем, а потому в моем случае это диалог с женщинами рода, с бабушкой, с мамой, с женщинами Востока, столь близкого мне. Относительно современниц мне важно говорить текстуально с Галиной Рымбу, Лидой Юсуповой, Оксаной Васякиной, Афиной Фаррукзад, Варсан Шаир. Относительно предшественниц: не могу не упомянуть Марину Цветаеву (о которой написала кандидатскую диссертацию) и Умм Эль-Банин.
Относительно предшественниц: не могу не упомянуть Марину Цветаеву (о которой написала кандидатскую диссертацию) и Умм Эль-Банин.
М.М.: Идеи феминизма всегда были важны для меня, но никогда не являлись первоначальным импульсом к написанию какого-либо текста, потому что на первом плане всегда были и остаются конкретные человеческие истории, а уже в них прямо или косвенно затрагиваются те или иные актуальные вопросы. Но если задуматься, то феминистская проблематика — одна из ключевых и в «Каймании», где женщины рассказывают о своем опыте жизни с психической болезнью, о навязчивом страхе и галлюцинаторном переживании насилия, и в «Причальном проезде», который стал моим личным феминистским манифестом, хотя я не стремилась к этому и просто описывала свою ситуацию, и в тексте «Ольга», созданном в рамках проекта «Идущий человек» благодаря общению с невероятно сильной и совсем молодой матерью двух детей, и во «Времени собственном», где говорится о женщинах, переживших гражданскую войну, о социальной роли чернокожей женщины в бывшей французской колонии, о маскулинной модели поведения, навязываемой робкому мальчику патриархальным обществом и переживаемой как травма (— первое правило дерись / даже если ты один против многих // а я всегда боялся / боялся и дрался) и о многих других вещах.
Из современниц, с которыми мы находимся в одном литературном поле, я вступаю в диалог приблизительно со всеми — потому что читаю всех, но это зачастую внутренний диалог, и мои «собеседницы» вполне могут об этом не подозревать. Что касается более глубоких и личных вещей, то настоящий — и человеческий, и творческий — диалог мы почти непрерывно ведем с Ниной Ставрогиной — прекрасной, ни на кого не похожей поэтессой, переводчицей и моей подругой. В Нине я ценю независимость взглядов, вкусов, поэтики. Думаю, что к каким-то важным мыслям, в том числе и по поводу феминистского письма, мы пришли вместе или просто наши взгляды заведомо совпадали. Так или иначе, этот диалог помогает мне лучше понимать многие вещи, даже тогда, когда он только мысленный.
Л.Ю.: Для меня феминистская поэзия — это поэзия соратниц. Мы вместе, и мы разные. Феминистская поэзия, прежде всего, выступает против власти мужчин: ее главная цель — отобрать поэзию у мужчин, отдать поэзию женщинам, утвердить свое независимое (от «нормализированного» мужского) женское присутствие, свое женское восприятие, свой женский голос в поэзии. Феминистская поэзия — это поэзия освобождения от мужской доминирующей «нормальности». И это поэзия освобождения от мужского влияния, мужского мнения, мужской воли. Феминистская поэзия всегда радикальна. Я хочу уточнить, что под «мужским» я имею в виду патриархальное мужское присутствие. А под «женским» —разнообразное, не ограниченное цисгендерностью, самовыражение и самоутверждение. Недавно, 4 апреля 2021 года, поэт Лев Рубинштейн одобрительно написал в своем Фейсбуке о замеченном им растущем влиянии женщин «и в культурной, и в общественной, и в политической, и в медийной жизни», однако свое сообщение он закончил так: «самые яркие и заметные образцы подлости, угрюмой тупости, поражающей воображение бесчеловечности, безбрежной беспринципности и демонстративного конформизма — это тоже они, барышни и тетушки». 180 лет назад то же самое написал Белинский (в письме Боткину): «В женщине как-то нет середины — или глубока, или совсем мелка и ничтожна». А в другом письме (Бакунину) он честно признался: «женщина существо, на которое я не могу не смотреть с некоторого рода сознанием своего превосходства, которое основывается не на моей личности, а только на моем звании мужчины».
Феминистская поэзия — это поэзия освобождения от мужской доминирующей «нормальности». И это поэзия освобождения от мужского влияния, мужского мнения, мужской воли. Феминистская поэзия всегда радикальна. Я хочу уточнить, что под «мужским» я имею в виду патриархальное мужское присутствие. А под «женским» —разнообразное, не ограниченное цисгендерностью, самовыражение и самоутверждение. Недавно, 4 апреля 2021 года, поэт Лев Рубинштейн одобрительно написал в своем Фейсбуке о замеченном им растущем влиянии женщин «и в культурной, и в общественной, и в политической, и в медийной жизни», однако свое сообщение он закончил так: «самые яркие и заметные образцы подлости, угрюмой тупости, поражающей воображение бесчеловечности, безбрежной беспринципности и демонстративного конформизма — это тоже они, барышни и тетушки». 180 лет назад то же самое написал Белинский (в письме Боткину): «В женщине как-то нет середины — или глубока, или совсем мелка и ничтожна». А в другом письме (Бакунину) он честно признался: «женщина существо, на которое я не могу не смотреть с некоторого рода сознанием своего превосходства, которое основывается не на моей личности, а только на моем звании мужчины». Чтение писем Белинского было моим любимым занятием в школьном детстве — и эти, и другие его высказывания про женщин меня очень поражали и казались глупыми и смешными, я их даже выписала, а потом использовала (некоторые) в одном из ранних рассказов. Но смешного в мизогинии, конечно, мало — очень злит, что и через 180 лет женоненавистничество в литературных кругах живет и здравствует, и даже говорит тем же языком. И как в борьбе против такого дремучего патриархата феминистской поэзии не быть радикальной!
Чтение писем Белинского было моим любимым занятием в школьном детстве — и эти, и другие его высказывания про женщин меня очень поражали и казались глупыми и смешными, я их даже выписала, а потом использовала (некоторые) в одном из ранних рассказов. Но смешного в мизогинии, конечно, мало — очень злит, что и через 180 лет женоненавистничество в литературных кругах живет и здравствует, и даже говорит тем же языком. И как в борьбе против такого дремучего патриархата феминистской поэзии не быть радикальной!
32 Стихи «Прости» — Стихи о любви идеально подходят для того, чтобы сказать «Прости»
В любовных отношениях нужно знать несколько важных вещей. Одним из них является то, что ключом к успешным отношениям является умение извиняться. Чем теснее вы связаны с другим человеком, тем труднее становится извиниться. Вы знаете о ее недостатках, а она о ваших. В пылу схватки очень легко задеть напарника в очень чувствительное место. Ваш партнер доверял вам, формируя отношения и позволяя себе быть уязвимой.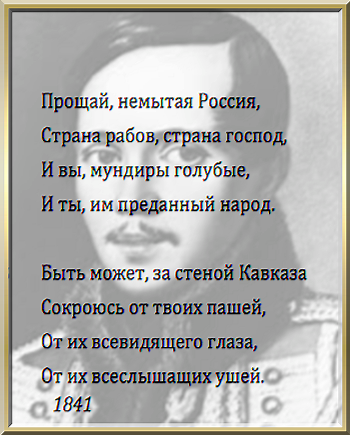 Когда вы говорите, извините, это должно быть сделано с чувствительностью, чтобы понять черту, которую вы пересекли.
Когда вы говорите, извините, это должно быть сделано с чувствительностью, чтобы понять черту, которую вы пересекли.
Сортировать по
- Рекомендуется
- Самый высокий рейтинг
- Новые стихи
- Самые популярные
- Больше всего голосов
- Большинство историй
Прости
Ребекка Х.
- Опубликовано: июль 2015 г.
Поэма о чувстве незавершенности без значимого другого
Картинка
Иногда я думаю, каким был бы мой мир
Если бы в моей жизни не было таких, как ты.Я возвращаюсь в реальность только для того, чтобы увидеть
Прочитать стихотворение целиком
- Рассказы 5
- Акции 42388
- Избранное 252
- Голосов 3225
- Рейтинг 4,41
Избранная общая история
В данный момент я в длительных отдаленных отношениях.
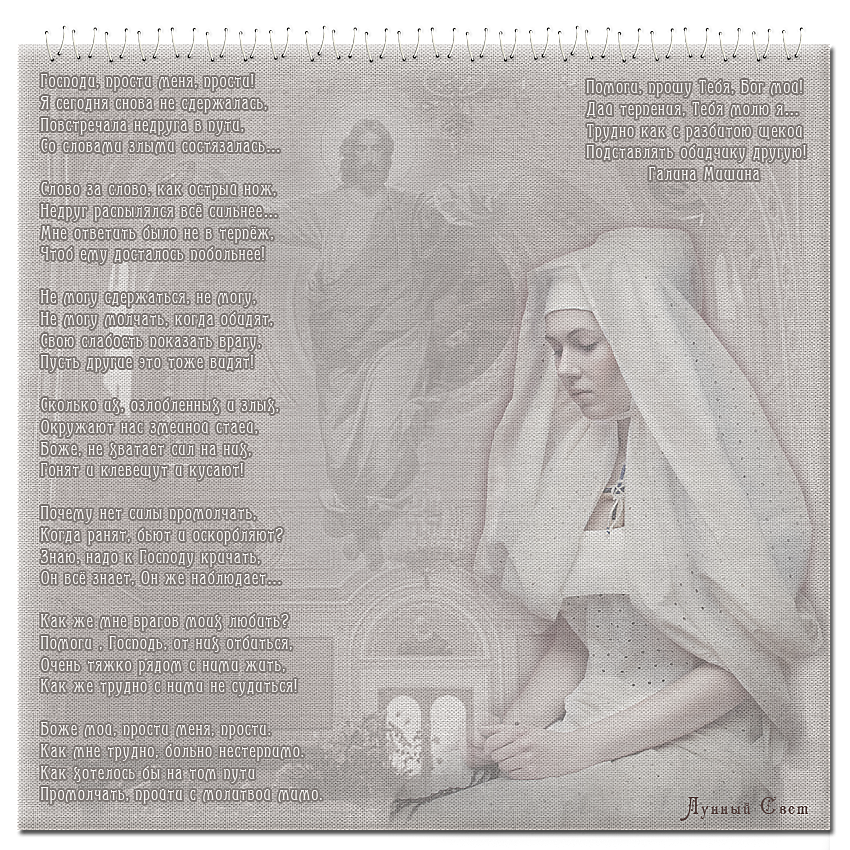 Я сказал кое-что, чего не имел в виду, и так разозлил ее, что теперь она не разговаривает со мной, но иногда пишет сообщения. Я только что отправил ей это…
Я сказал кое-что, чего не имел в виду, и так разозлил ее, что теперь она не разговаривает со мной, но иногда пишет сообщения. Я только что отправил ей это…Прочитать всю историю
Прости
Леон Уит
- Опубликовано: май 2011 г.
Прости, стих от мужа жене
Каждый раз, когда я вижу боль в твоих глазах,
Маленькая часть моего сердца умирает.
Как бы сильно и как часто ты ни старался,
Кажется, я только и делаю, что заставляю тебя плакать.Прочитать стихотворение целиком
- Рассказы 13
- Акции 18030
- Избранное 128
- Голосов 1823
- Рейтинг 4,42
Избранная общая история
Прочитав это стихотворение, я понял, что не найду лучших слов, чтобы объяснить, что я чувствую и как сожалею о своей жене за то, что поставил ее на второе место и проигнорировал ее.
 Надеюсь, с этим она увидит, что я делаю…
Надеюсь, с этим она увидит, что я делаю…Прочитать всю историю
Верни меня
Кэти
- Опубликовано: март 2008 г.
Сожаления после разрыва отношений
Как я мог быть таким глупым
Чтобы позволить тебе ускользнуть?
Я держал тебя на руках,
Но я позволил тебе ускользнуть.Прочитать стихотворение полностью
- Истории 31
- Акции 13875
- Избранное 163
- Голосов 3459
- Рейтинг 4,35
Избранная общая история
Это стихотворение действительно грустное. Я встречалась с этим мальчиком. Не скажу, что не любила его, потому что действительно любила всем сердцем, но все было в тексте. Мы никогда не разговаривали, и это заставило меня…
Прочитать всю историю
Извините
Уайтстар
- Опубликовано: июль 2008 г.

Стихотворение с извинениями
Я так сильно тебя люблю,
Хотя иногда я делаю то, что причиняет мне боль.
Я так стараюсь надеяться, что ты всегда видишь
Как много для меня значит твое присутствие в моей жизни.Прочитать стихотворение целиком
- Рассказы 44
- Акции 61952
- Избранное 316
- Голосов 10268
- Рейтинг 4,33
Избранная общая история
Вот что я действительно чувствую к своему парню. Мы вместе уже 9 месяцев и до сих пор живем. Мы падали несколько раз, но все равно продолжаем идти. Я знаю, что причинил ему боль, и все же…
Прочитать всю историю
Последний шанс
Джейкоб Гринберг
- Опубликовано: январь 2008 г.
Простите
Мне жаль, что вы не можете мне доверять
И никогда меня не впустит.
Мне жаль, что ты не веришь в меня
И что я не смог победить.Прочитать полностью стихотворение
- Истории 11
- Акции 12924
- Избранное 125
- Голосов 2935
- Рейтинг 4,27
Избранная общая история
Я говорила очень злые и обидные вещи своему мужу, который так добр ко мне. Теперь он не хочет со мной разговаривать и снял свое обручальное кольцо. Я так обижен и потерян, и не знаю, что делать.
Танцор для век
Марк Судан
- Опубликовано: июнь 2008 г.
Пропал без вести Наблюдая за сном бывшего любовника
Я слева, а ты справа
как мы положили наши тела в начале ночи.Моя голова на двух подушках, а твоя на одной
Прочитать всю поэму
- Рассказы 2
- Акции 1897
- Избранное 33
- Голосов 666
- Рейтинг 4,35
Избранная общая история
Я сильно разозлила своего парня резкими словами, и вместо того, чтобы потом извиниться, я капризничала, и это многое испортило в наших отношениях тем, что мой парень не очень.
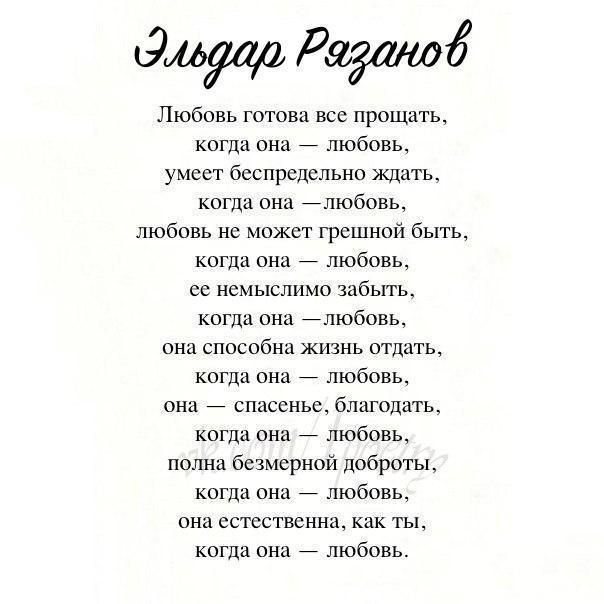 ..
..Прочитать всю историю
Прости
Кейси Ли Уотсон
- Опубликовано: январь 2008 г.
Поэма о том, как вымещать гнев на другом человеке
Слова, которые я говорю, не всегда звучат правильно,
и они всегда, кажется, начинают борьбу.Я знаю, что мои слова могут причинить тебе боль,
Прочитать стихотворение целиком
- Истории 10
- Акции 12035
- Избранное 156
- Голосов 3856
- Рейтинг 4.30
Избранная общая история
Я встречалась с парнем, который был младше меня на 5 лет, и теперь он хочет жить один, оставив меня и нас. Он говорит, что у нас нет шансов быть вместе. Он хочет девушку помоложе. Мы…
Прочитать всю историю
Прости
Джаз
- Опубликовано: февраль 2008 г.
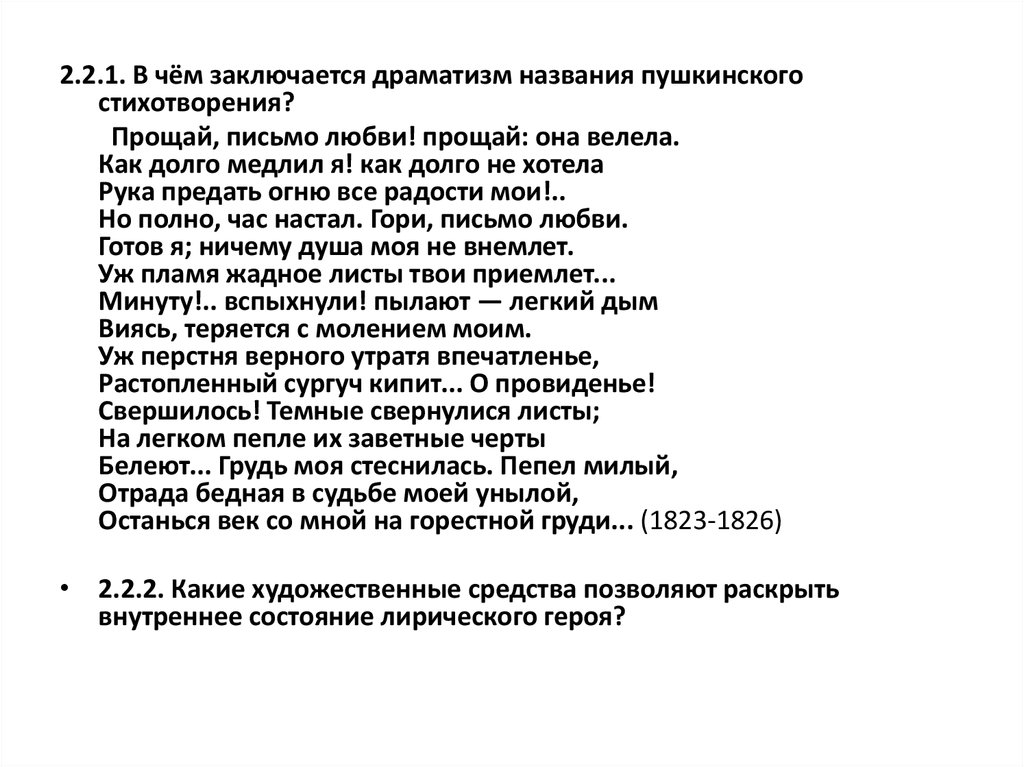
Никто не идеален
Сначала я извиняюсь.
Я извиняюсь в последнюю очередь.
Я извиняюсь за будущее,
но в основном за прошлое.Прочитать стихотворение целиком
- Истории 7
- Акции 15323
- Избранное 122
- Голосов 4642
- Рейтинг 4,28
Избранная общая история
Мне понравилось это стихотворение, и я отправила его своему парню, потому что я продолжаю обвинять его и быть с ним суровой. Я знаю, что ему больно, потому что он действительно хороший человек. Я знаю, что он никогда не изменит мне. Это…
Прочитать всю историю
Прости
Беви
- Опубликовано: апрель 2010 г.
Никогда не переставай любить меня
Прости меня за то, что я сделал.
Прости, я не могу быть твоим номером один.Прости, что всегда подвергал тебя испытанию.

Прочитать стихотворение целиком
- Рассказы 11
- Акции 10282
- Избранное 165
- Голосов 2757
- Рейтинг 4,27
Избранная общая история
Это могло бы заставить меня плакать…….если бы я не выплакал все свои слезы. Поэтому, когда я хочу плакать, у меня болит голова или я злюсь… Я редко плачу, когда мне нужно, типа я могу плакать, но я не могу плакать, это…
Прочитать всю историю
Я все еще люблю тебя
Лейлани Эрмоса Петерсен
- Опубликовано: октябрь 2008 г.
Из всего, что я когда-либо говорил,
Из всех слез, которые я когда-либо проливал,
Из всего, что я сделал с тобой,
Я хочу, чтобы ты знал, что я все еще люблю тебя.Прочитать стихотворение целиком
- Рассказы 3
- Акции 4053
- Избранное 31
- Голосов 1487
- Рейтинг 4,21
Избранная общая история
Ваше стихотворение действительно напоминает мне о моем прошлом.
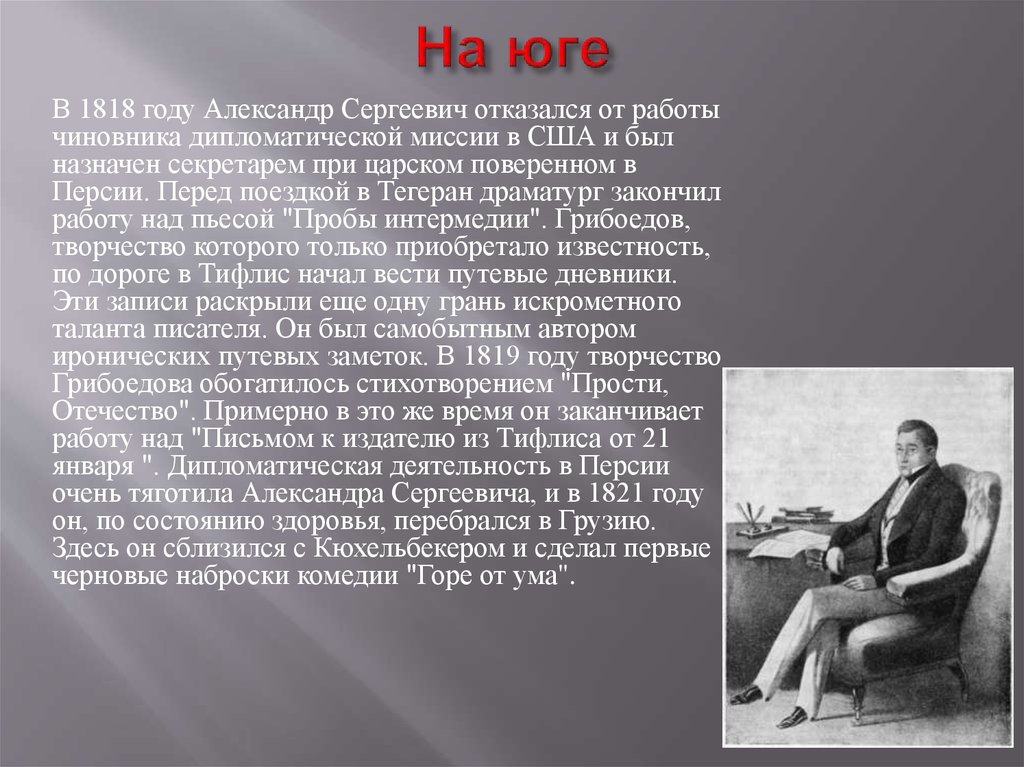 Это действительно потрясающе. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, прочитал это. Ваше стихотворение действительно хорошее.
Это действительно потрясающе. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, прочитал это. Ваше стихотворение действительно хорошее.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Вернуться к началу
Иерихон Браун, скажите спасибо, скажите, что я сожалею — Поэзия Письма Гека Гутмана
Джерико Браун
(в The New York Times )Я не знаю, на чьей вы стороне,
Но я здесь для людей
Кто работает в продуктовых магазинах, которые светятся по утрам
И закрываться для глубокой уборки ночью
Прямо на улице и в городах, которые я неправильно произношу,
В городах, слишком маленьких для моего большого черного
Автомобиль, чтобы бросить, и в каждом широком углу
Канзаса, где ходить в школу означает
По крайней мере, одно поле trip
На бойню. Я так мало хочу: еще один кожаный переплет
Книга, буравчик с лавандовым джином, хлеб
Такой вкусный, когда я его попробую, я могу сказать вам
Как это сделано.Я бы хотел, чтобы мы переосмыслили
Что значит быть нацией. Я в настроении по поводу Америки
Сегодня. У меня ПТСР
О Господе. Боже, храни людей, которые работают
В продуктовых магазинах. Они знают немного гламура
Много гламура. Они знают, сколько
стоит старшему из нас поесть. Спасти
Моя любовь, а не мои приговоры. Прежде чем я их увижу,
я рисую родинку возле левой ямочки,
Добавьте изюминку к улыбке, которую они не видят.
За моей маской. Я ухмыляюсь или лгу, или, может быть,
Я ношу пасть зверя. Я ем диких животных
Хотя некоторые из нас растут, зная
Что такое клецки. Людям, которые работают в продуктовом магазине, все равно.
Говорят, Спасибо . Мол, Извини,
Масло моторное больше не продаем с горем таким густым
Можно было потрогать. Продолжать. Потрогай это.
Еще рано. Поздно. Они вымыли руки.
Ради тебя умыли руки.
И они едут домой на автобусе.
Литература отчасти существует вне какофонии современности. Все стихи, все романы, все драмы написаны посреди бурного настоящего. Тем не менее изучение литературы — стихов, романов, пьес — также выводит нас за пределы настоящего, которое слишком часто переполняет нас и отделяет от глубокой связи с человеком. Быть поглощенным сиюминутными заботами слишком часто означает быть отрезанным от более долгосрочной перспективы того, что такое жизнь, мораль, человеческое существование.
Все стихи, все романы, все драмы написаны посреди бурного настоящего. Тем не менее изучение литературы — стихов, романов, пьес — также выводит нас за пределы настоящего, которое слишком часто переполняет нас и отделяет от глубокой связи с человеком. Быть поглощенным сиюминутными заботами слишком часто означает быть отрезанным от более долгосрочной перспективы того, что такое жизнь, мораль, человеческое существование.
Неделю назад я говорил со своим сыном Дэвидом о браслете, который купил для его матери. Мы купили браслет в Париже, на Иль-де-ла-Сите, острове посреди Сены. — Я знаю стихотворение о Сене, — сказал я ему. — Это Гийом Аполлинер. — Это тот парень, который написал стихотворение о машине? — спросил он. ‘Это. Но это совсем другое стихотворение. Я пошлю его вам».
Поэтому я отправил ему «Мост Мирабо» с примечанием, что это, пожалуй, самое прекрасное стихотворение, когда-либо написанное. Я также отправил с той же веб-страницы чудесный перевод Ричарда Уилбура. Оба находятся на веб-странице, которую я только что процитировал, на ваше рассмотрение….
Оба находятся на веб-странице, которую я только что процитировал, на ваше рассмотрение….
Я написал вступительные абзацы о том, что прекрасное само по себе стихотворение о неудержимом течении времени, великое любовное стихотворение достойно прочтения в эти трудные времена. Я утверждал, что такая поэма была важна даже во время чумы. Я верил тому, что написал, и верю до сих пор.
Но кого я обманывал? Мы живем во время пандемии коронавируса-19. В то же время по всей Америке проходят массовые демонстрации, справедливо настаивающие на том, что жизнь черных имеет значение. И я посылал стихотворение девяностолетней давности о времени, любви и текущей реке?
«Поэзия ничего не делает», — написал У. Г. Оден в замечательном стихотворении. Я боролся с этой строкой — которая, как мне кажется, в контексте всего стихотворения окончательно противоречит — почти всю свою жизнь. Есть царство прекрасного, которое существует отдельно от жизни, но также является ее частью и делает все стихи читаемыми даже в (особенно в) худшие времена. Фактически, второе стихотворение, которое я отправил в этот список, Збигнева Герберта «Пять мужчин», подчеркивает, что красота имеет свое место в мире, и что даже если о красоте судят по «полезности», она может стоять. в значимом месте.
Фактически, второе стихотворение, которое я отправил в этот список, Збигнева Герберта «Пять мужчин», подчеркивает, что красота имеет свое место в мире, и что даже если о красоте судят по «полезности», она может стоять. в значимом месте.
И все-таки, все-таки было как-то нехорошо посылать стихотворение, которое для меня особенно отметилось своей красотой. В Америке десятки миллионов безработных из-за вируса, который может убить, и сотни миллионов изолированы из-за осторожности перед лицом этого вируса. Нация поражена тем, что человек может беззаботно и безнаказанно лишить жизни другого человека только потому, что человек, которого он убивает, черный. Разве не было бы ошибкой отправить в этот момент прекрасное стихотворение Аполлинера?
Затем я прочитал стихотворение, которое поместил в начале этого эссе, Джерико Брауна «Скажи спасибо, извини». Я нашел его в The New York Times . Независимо от того. Стихи приходят к нам из странных мест, не только тонкими томиками с выцветшими обложками.
Мне нравится это стихотворение. Ему удается одновременно бороться с пандемией, расизмом и классизмом, которые неизгладимо характеризуют американскую нацию. И делает это на языке, столь близком к просторечию — к тому, на чем мы говорим, — что говорит с нами без литературных претензий. Хотя, как мы увидим, это довольно литературно.
Давайте начнем с этого замечательного названия. «Скажи спасибо, скажи, что мне жаль». Без знаков препинания. В старших классах или на английском языке для первокурсников учитель сказал бы, что это повторяющееся предложение, и поэтому оно нуждается в исправлении. Но нуждается ли он в исправлении? Я так не думаю. Строка объединяет благодарность («спасибо») и извинение («прости») или, возможно, даже раскаяние. Странное сочетание, лежащее в основе стихотворения, в котором не упоминается ни благодарности, ни раскаяния. Тем не менее, оба присутствуют: первый как лежащий в его основе мажорный ключ, его глубокое осознание; второй как то, что мы должны делать. Мы должны быть в состоянии сказать, что сожалеем о том, что недостаточно благодарны.
Мы должны быть в состоянии сказать, что сожалеем о том, что недостаточно благодарны.
Довольно много для названия. Быстро переходим к первой строке: «Я не знаю, на чьей вы стороне». Мы лицом к лицу с прямым обращением: поэт говорит с нами, как с читателями, отличными от него самого, того, кто говорит. В этом стихотворении он обращается к своим читателям на «ты» и, возможно, также обвиняет их. В этой строке есть отголосок старой песни, о которой я упоминал ранее, одной из великих американских песен, написанной (белой) женщиной в начале 1930-х годов в разгар профсоюзной борьбы против владельцев шахт и сотрудников правоохранительных органов. кто поддерживает свою собственность и привилегии: «На чьей ты стороне?» (Это поет Пит Сигер.) Вот первые строфы, написанные Флоренс Рис:
На чьей ты стороне?
На чьей ты стороне?
На чьей ты стороне?
На чьей ты стороне?Мой папа был шахтером
А я сын шахтера
И я буду с профсоюзом
Пока не будет выиграна каждая битваГоворят в графстве Харлан
Там нет нейтральных man
Или головорез J.H. Blair
«Я за людей», — говорит нам Джеремайя Браун. Я хочу обратить ваше внимание на то, что происходит в конце второй строки. Строка перегружена — она продолжается в третью строку. Но всего на миллисекунду он зависает на «Я здесь для людей», прежде чем остановиться на том, для каких людей он предназначен. Это enjambing и это зависание на мгновение характеризуют большую часть этого стихотворения. Явление повторяется снова и снова в последующих строках. Это enjambing и его мгновенное зависание происходит так часто, что это явление формирует стихотворение. Я наслаждаюсь этими enjambings, потому что они заставляют меня хотеть перечитывать стихотворение снова и снова. Стихотворение говорит нам о вещах, и эти enjambing и последующие повешения настолько важны, что я призываю вас не пренебрегать ими, когда вы читаете стихотворение.
Давным-давно у меня был замечательный учитель Стенли Фиш, обладавший блестящим умом. И все же каким-то образом он казался настолько страстно захваченным собственным великолепием, что никогда не знал, на чьей он стороне. (Возможно, он думал, что он на стороне народа? Я как-то сомневался в этом.)
(Возможно, он думал, что он на стороне народа? Я как-то сомневался в этом.)
Стэнли Фиш в своем великолепии написал книгу о Джоне Мильтоне под названием Удивленный грехом . Я забываю многое из того, что читал, или, может быть, я никогда этого не понимаю. Но вот что я помню из этой книги. Иногда линии заканчиваются, и в промежутке между концом одной линии и началом следующей возникает момент возможности: линия может пойти в разные стороны. Я не знаю, читал ли Джерико Браун Стенли Фиша, и сомневаюсь, что читал: но он очень хорошо понимает способность пережатой строки зависать на мгновение, прежде чем она разрешится в следующей строке.
В первых пяти строках есть два таких момента висячих, связанных с enjambments. Они, как и многие другие enjambings в поэме, не являются «естественными», частью способа, которым линия поэзии приспосабливается к вибрациям текущей разговорной речи. Эти два и другие случаи в стихотворении являются частью того, что движет стихотворением и придает ему глубокий резонанс.
Я не знаю, на чьей ты стороне,
Но я здесь для людей*
Кто работает в продуктовых магазинах, которые светятся по утрам
И закрываться на генеральную уборку на ночь*
Прямо на улице и в городах, я неправильно произношу,
Те люди, на чьей он стороне? Работающие люди. Они работают в продуктовых магазинах, о которых пойдет речь в этом стихотворении. Они убираются, глубоко убираются ночью (обратите внимание на рифму «ночь/право», которая встречается в следующем enjambment). Они «прямо на улице», рядом с ним, хотя они есть и в других местах нашей страны. Эти «глубокие очистители», ссылка, которая приобретает особое значение в наше время пандемии. Мы в безопасности, потому что люди чисты, глубоко чисты, поэтому мы не заразимся коронавирусом. [В дальнейшем я буду ссылаться на нескольких других поэтов, но здесь я должен отметить подавляющее присутствие Гвендолин Брукс, парящей над стихотворением, которая понимала, что те, кто жил и работал почти невидимо вокруг нее в разделе «Бронзевиль» Чикаго было настоящий человек, прожили настоящую жизнь, столкнулись с настоящими трагедиями — даже несмотря на то, что мажоритарная культура слишком часто не замечала их и действительно делала их невидимыми. ] Длинное первое предложение этого стихотворения указывает на то, что эти «рабочие люди» повсюду в Америке. Не только в продуктовых магазинах, но и на скотобойнях… тем не менее, продуктовый магазин будет центром беспокойства и образов Брауна по мере развития стихотворения.
] Длинное первое предложение этого стихотворения указывает на то, что эти «рабочие люди» повсюду в Америке. Не только в продуктовых магазинах, но и на скотобойнях… тем не менее, продуктовый магазин будет центром беспокойства и образов Брауна по мере развития стихотворения.
Ох уж эти висячие подвески. Возьмем следующий: «В городах, слишком маленьких, чтобы моя большая черная машина могла уехать». Здесь то, что не было выбрано, входит в стихотворение, возможность одновременно торжественная и расистская: «Моя большая черная задница». Да, поэт черный; Да, у него сильный голос. Но прежде чем перейти к (праздничному) расистскому завершению фразы «большой черный», он заменяет ее словом «машина». Странно, интересно, тревожно.
Далее в стихотворении рассматривается центр страны, штат Канзас.
и в каждом широком углу*
Канзаса, где посещение школы означает*
По крайней мере, одна экскурсия*
На скотобойню.
Возможно, я слишком субъективен, но я не мог не вспомнить замечательное и недооцененное стихотворение Джеймса Дикки под названием «Падение» о стюардессе, сброшенной с самолета, когда он летит на высоте тридцати тысяч футов. над средним западом: «величайшее, что когда-либо приходило в Канзас».
над средним западом: «величайшее, что когда-либо приходило в Канзас».
с ее одеждой, начиная с
, чтобы спуститься по всему Канзасу в кусты на властном шестом зеленом
поля для гольфа. Обувь ее пояс спускается вниз
на бельевой веревке, где он принадлежит ее блузку на молнии:
Канзас, где «посещение школы означает / Хотя бы одну экскурсию / На бойню». Опять же, у нас есть намеки на коронавирус, наиболее опасными вспышками которого были дома престарелых и скотобойни. Обратите внимание на висячий анжам после экскурсии. Так часто экскурсии безобидны (хотя, полагаю, не для детей, которые их берут), безопасны, ничем не примечательны. Но не здесь, не в Канзасе: центр выращивания кукурузы, центр переработки мяса, так что в Канзасе, конечно, экскурсия на скотобойню может быть обязательной. Наверняка школьные учителя, проводившие эту экскурсию, не обращали внимания на тесные, небезопасные, низкооплачиваемые условия работы, где забивают скот. еще мы знаем: Мы снова вернулись, на вторую строчку, «для людей/которые работают». И к основной ноте пандемии: глубокая очистка, скотобойни. Кто это работает?
еще мы знаем: Мы снова вернулись, на вторую строчку, «для людей/которые работают». И к основной ноте пандемии: глубокая очистка, скотобойни. Кто это работает?
Ах, но поэт предпочел бы быть в другом месте. Он хочет немного (хотя и демонстративно модный и классовый):
Я хочу так мало: еще один кожаный переплет
Книга, буравчик с лавандовым джином, хлеб
Так хорошо, когда я пробую его, я могу сказать вам
Как это сделанный.
Да, он немного сибарит, но этот вкус хлеба (хлеба для гурманов, конечно) — это еще и жест назад в мир труда, в мир, где пекари работают, чтобы испечь хлеб.
А теперь Иерихон Браун соскальзывает в Аллена Гинзберга, этого великого поэта как простого языка, так и критики мира, в котором он живет. Я слышу отголоски «Америки» повсюду в стихотворении, но особенно в следующих строках, смешных и простых -произнесенный и трагический все в то же самое время. Обратите особое внимание на висячие подвески:
Я бы хотел, чтобы мы переосмыслили*
Что значит быть нацией.Я в настроении по поводу Америки*
Сегодня. У меня ПТСР*
О Господе. Боже, храни людей, которые работают*
В продуктовых магазинах.
Вот Гинзберг:
Я не напишу стихотворение, пока не буду в здравом уме.
Америка когда ты будешь ангельской?
Когда ты разденешься?
Когда ты посмотришь на себя сквозь могилу?
Когда вы будете достойны своего миллиона троцкистов?
Америка, почему твои библиотеки полны слез?
Что значит быть нацией, спрашивает Браун (как и Гинзберг до него, хотя для Гинзберга вопрос вращался о «аутсайдерах» и геях, подобных ему), где некоторые ежедневно подвергаются опасности, в то время как другие работают и работают удаленно, поэтому им не приходится сталкиваться с переносчиками пандемии?
Мы понимаем, в каком он настроении: нация, которая ценит свою интеллектуальную верхушку среднего класса и считает само собой разумеющимся «передовых» рабочих, которые работают не в больницах, а в супермаркетах, скотобойнях, онлайн-складах. Конечно, у него «посттравматическое стрессовое расстройство/ О Господе:» Его затруднительное положение Иова. Как может быть Бог, когда одни страдают и умирают, а другие живут спокойно, пока их существование раскручивается один здоровый счастливый день за другим?
Конечно, у него «посттравматическое стрессовое расстройство/ О Господе:» Его затруднительное положение Иова. Как может быть Бог, когда одни страдают и умирают, а другие живут спокойно, пока их существование раскручивается один здоровый счастливый день за другим?
Мы живем в безумном мире. Когда мы думаем о Господе, мы подобны тяжелораненым, измученным в боях солдатам: спутанные мозги, отключенные, неспособные продолжать идти. Тем не менее Браун взывает к тому же Господу: «Боже, храни людей, которые работают / В продуктовых магазинах». Мы вернулись к началу. С рабочими людьми, людьми рабочего класса, преимущественно черными и коричневыми. И, увы, Бог может не ответить на его молитву: Бог может не спасти «людей, которые работают».
То, что люди работают в продуктовых магазинах, не означает, что они в чем-то меньше, чем читатель, меньше, чем человек. «Они знают немного гламура / много гламура». (Эту строчку могла бы написать Гвендолин Брукс. Хммм. Может, она и написала. Это из Улица в Бронзевилле , «В парикмахерской»:
Это из Улица в Бронзевилле , «В парикмахерской»:
Дай мне взмах вверх, Минни,
С бесчисленными детскими кудрями.
Настало время гламура.
Я покажу им девушек.
Как я уже сказал, дух Гвендолин Брукс дышит в это стихотворение.)
Они знают, сколько*
Старшим из нас стоит поесть. Save*
Моя любовь, а не мои предложения. Прежде чем я их увижу,
Я рисую родинку возле левой ямочки,
Добавляю изюминку к улыбке, которую они не видят *
За моей маской. Я ухмыляюсь или лгу, или, может быть,
Я ношу пасть зверя.
Трудящиеся люди знают цену еде – не только сколько она стоит, но и насколько она необходима для выносливости в жизни лишений и жизни на грани. «Сохрани / Моя любовь, а не мои предложения». Я не совсем уверен, что он имеет в виду здесь. Возможно, это великая борьба между жизнью и искусством, Рильке «Ибо где-то существует древняя вражда/ Между нашей повседневной жизнью и великим трудом». Скорее всего, это трудящиеся, о которых он пишет, имеют к нему претензии больше, чем необходимость написать «великую» поэму.
Скорее всего, это трудящиеся, о которых он пишет, имеют к нему претензии больше, чем необходимость написать «великую» поэму.
Вернемся к стихотворению и невидимой улыбке. Маски — это то, что мы все (ну, многие из нас) носим для защиты от коронавируса. Но здесь маска также восходит к великому раннему стихотворению чернокожих «Мы носим маску» Пола Лоуренса Данбара, ссылаясь на другую маску, закрывающую черные лица от властного взгляда белых:
Мы носим маску, которая ухмыляется и ложь,
Он скрывает наши щеки и затеняет наши глаза,—
Браун даже перекликается со словами Данбара: «Я ухмыляюсь, или лгу, или, может быть,*». Может быть, «я ношу пасть зверя».
Тот зверь? Самый известный зверь в поэме (ну, всегда есть ранняя английская поэзия) — это тот, кого Йейтс процитировал в своем ошеломляющем заключении «Второго пришествия».
Снова опускается тьма; но теперь я знаю
То, что двадцать столетий каменного сна
Раздразнили до кошмара качающейся колыбелью,
И что за грубый зверь, пробил, наконец, свой час,
Сгорбившись, В Вифлеем рождаться?
Но я думаю, что Джерико Браун имеет в виду нечто гораздо более близкое к Рудольфу Риду. Гвендолин Брукс в одном из величайших американских стихотворений вписала историю Рида в «Балладу о Рудольфе Риде». В стихотворении черная семья переезжает в белый район. Сначала унижающие взгляды, признаки ненависти. Затем брошены камни и более крупные камни. Но тут пуля пробивает окно, и Рудольф Рид бросается на своих невидимых преследователей, когда не может больше терпеть, увидев истекающую кровью дочь.
Гвендолин Брукс в одном из величайших американских стихотворений вписала историю Рида в «Балладу о Рудольфе Риде». В стихотворении черная семья переезжает в белый район. Сначала унижающие взгляды, признаки ненависти. Затем брошены камни и более крупные камни. Но тут пуля пробивает окно, и Рудольф Рид бросается на своих невидимых преследователей, когда не может больше терпеть, увидев истекающую кровью дочь.
Обратите внимание на слово «зверь» в следующих строфах. Этот зверь ярости и кровожадности тоже скрывается под маской.
Тогда поднялся наш Рудольф Рид
И пожал руку своей жене,
И подошел к двери с тридцатьчетверкой
И зверским мясницким ножом.Он бежал, как сумасшедший, в ночь.
И от слов во рту воняло.
К тому времени, когда он ранил своего первого белого человека
, он уже не думал.К тому времени, как он ранил своего четвертого белого человека
, Рудольф Рид уже был мертв.
Соседи собрались и пнули его труп.
«Негр—» сказали его соседи.
Несмотря на прежние поклоны лавандовому джину, книгам в кожаных переплетах и домашнему хлебу, у Брауна есть и более глубокие эмоции. Да, другие, живущие в комфортных условиях, представители высшего среднего класса могут есть ньокки; он (искушенный поэт) знает, что такое клецки. Но под маской он сам будет «есть диких животных».
За моей маской. Я ухмыляюсь или лгу, или, может быть,
Я ношу пасть зверя. Я ем диких животных
Хотя некоторые из нас растут, зная
Что такое клецки.
Однако стихотворение в конечном счете не о поэте, а о «людях/работающих в продуктовых магазинах», ибо он повторяет фразу, с которой мы столкнулись в первых трех строках стихотворения, и снова в его середине. Теперь это происходит в третий раз в конце стихотворения.
Людям, работающим в продуктовом магазине, все равно.
Говорят, Спасибо . Мол, Извини,
Масло моторное больше не продаем с горем таким густым
Можно было потрогать.
Эти люди, работающие люди, не заботятся о «ньокки» или «лавандовом джине». Они делают свою работу. И соблюдайте этикет, регулирующий человеческие отношения. Трогательность их вежливого ответа в разгар пандемии « Извините,/ Мы больше не продаем моторное масло » душераздирающе — и героическая. Я думаю, что эта очередь несет в себе отголоски пандемии, когда некоторым магазинам запретили продавать товары длительного пользования и разрешили продавать только продукты питания. Но и на «немного более низком уровне» (цитирую Moby-Dick ), означает вежливость. Те, кто обслуживает клиентов, порядочны и щедры, а сами клиенты воспринимают эту вежливость как должное. С такой динамикой сталкиваются «люди, работающие в продуктовом магазине».
Здесь мы находимся в центре стихотворения, потому что эти люди, работники бакалейной лавки, произносят эти слова вежливо, но в то же время «с такой глубокой скорбью/ Вы могли бы прикоснуться к ней». Не могу сказать, как я восхищаюсь этими словами, этой метафорой, где горе имеет вес и размер. Вот почему мы читаем стихи, чтобы поразиться тому, что мы, люди, можем сказать о том, что считаем само собой разумеющимся, что мы можем пройти мимо, не узнав. Не Браун. Он распознает то, что находится перед нами, чего мы не можем или не хотим видеть. «С горем таким густым / Вы могли бы коснуться его». Близкие к ним больны, умирают, безработны: эти работники гастрономов знают, что потеряно, что потеряно и что будет потеряно.
Вот почему мы читаем стихи, чтобы поразиться тому, что мы, люди, можем сказать о том, что считаем само собой разумеющимся, что мы можем пройти мимо, не узнав. Не Браун. Он распознает то, что находится перед нами, чего мы не можем или не хотим видеть. «С горем таким густым / Вы могли бы коснуться его». Близкие к ним больны, умирают, безработны: эти работники гастрономов знают, что потеряно, что потеряно и что будет потеряно.
Поскольку он также признает, как легко мы, читатели, не работающие в продуктовых магазинах или на бойнях, уклоняемся от человеческого контакта, который предлагают нам в продуктовом магазине. Он бросает нам вызов: «Давай. Потрогай это.» Горе? Руки черные или коричневые – или белые? – рабочий?
Но мы не трогаем, не узнаём то, что встречаем в продуктовом магазине. Мы воспринимаем это и тех, кто там работает, как должное. А они, эти рабочие? Они вымыли руки, что, казалось бы, обычное дело во время пандемии. Чтобы служить нам, читателям этого стихотворения. Чтобы держать нас в большей безопасности.
Чтобы держать нас в большей безопасности.
Еще рано. Поздно. Они вымыли руки.
Они умыли руки для вас . [Курсив мой]
В этом стихотворении есть встреча между рабочими людьми и нами, читающими стихотворение, покупающими в продуктовых магазинах и супермаркетах. Но встреча нагружена сознанием только в одном направлении. Рабочие умывают руки «для вас». Мы, в свою очередь, не трогаем их горе или даже признаем, что оно есть. Стихотворение заканчивается строкой, грусть которой невозможно переоценить. Раса, бедность, класс: все это заставляет «людей, работающих в продуктовых магазинах», людей, которых экономические обстоятельства вынуждают обслуживать нас, ехать домой на автобусах. Нестерильные, переполненные автобусы. Если Христос умер за наши грехи, то эти люди — подобия Христа.
«И они едут домой на автобусе».
Автобусы, как известно, нестерильные, небезопасные. Так же, как работа в продуктовом магазине или на бойне небезопасна. Люди работают и ездят на автобусах, а не на машинах, из-за экономической необходимости. Работа, которую они делают, поддерживает нас — еда, мясо, — а мы игнорируем их и то, что они делают, игнорируем небезопасные автобусы, на которых они ездят. Раса, класс и пандемия сливаются в этом стихотворении «И едут на автобусе домой». Мы игнорируем их, игнорируем благодарность, которую должны чувствовать, игнорируем извинения, которые должны принести тем, кто делает нашу жизнь возможной.
Люди работают и ездят на автобусах, а не на машинах, из-за экономической необходимости. Работа, которую они делают, поддерживает нас — еда, мясо, — а мы игнорируем их и то, что они делают, игнорируем небезопасные автобусы, на которых они ездят. Раса, класс и пандемия сливаются в этом стихотворении «И едут на автобусе домой». Мы игнорируем их, игнорируем благодарность, которую должны чувствовать, игнорируем извинения, которые должны принести тем, кто делает нашу жизнь возможной.
«И они едут домой на автобусе». Более грустной строки никогда не было написано. Стихотворение просит нас противостоять расе и классу во время пандемии. Неудивительно, что она называется «Скажи спасибо, извинись».
«Песня об искуплении глубокого сожаления» (для пропущенных встреч, BBC North, Манчестер) Ред. примечание: всего лишь одно из самых смешных, жалких и жалких извинений, когда-либо написанных. Единственное, оно полно аллюзий, некоторые из которых лучше всего уловимы, если вы британец. К счастью, редактор когда-то изумительного поэтического сайта «Чудесные менестрели» (Томас…) написал несколько поясняющих заметок, которые я с благодарностью привожу в рамке под стихотворением. Человек, который продал Манхэттен за приличный браслет,
И пьяный пластический хирург, который сказал: «Знаю, давайте их увеличим!»
И не забудьте Библию, с содомлянами и Иудой,
И Роберт Фалькон Скотт, проигравший гонку норвежцу,
Все люди, которые были мусором, когда мы нуждались в них, чтобы сделать это,
| ||||||
|
